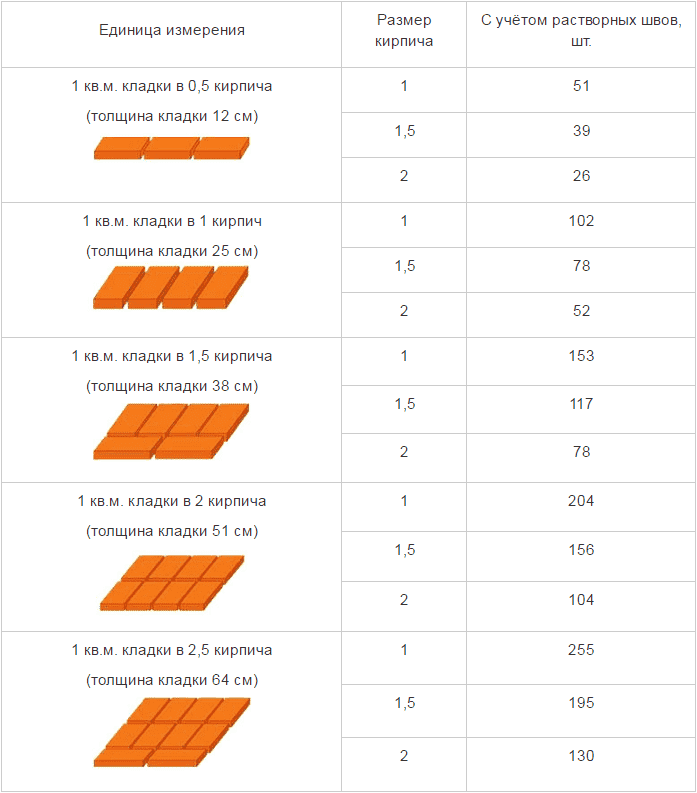- «ДЕНЬ ОПРИЧНИКА» Владимира Сорокина — антиутопия или наше будущее?
- Антиутопический роман «День опричника» Владимира Сорокина, который переместит вас в предполагаемый мир будущего России
- Сюжет романа Владимира Сорокина «День опричника»
- Текст книги «День опричника»
- Автор книги: Владимир Сорокин
- Современная проза
«ДЕНЬ ОПРИЧНИКА» Владимира Сорокина — антиутопия или наше будущее?
В нашем современном мире мы часто задаёмся вопросами:
«Что ждёт нашу страну дальше?», «Как будут жить наши дети и внуки?».
Над этим размышляют, конечно же, и современные писатели.
В этой статье представляю вам, уважаемые читатели и подписчики канала, обзор на антиутопический роман Владимира Сорокина «День опричника», который, возможно, расшевелит ваши мозги и заставит задуматься о будущем нашей великой России.
Антиутопический роман «День опричника» Владимира Сорокина, который переместит вас в предполагаемый мир будущего России
Роман «День опричника» Владимира Сорокина вышел в свет в 2006 году и сразу же разбил читателей на два противоположных лагеря. Одни взахлёб говорили о романе, восхищаясь его формой изложения и сюжетом, который описывал возможное будущее России в антиутопической форме.
Противники, наоборот, высказывали своё мнение о том, что роман противно читать, так как писатель надсмехается в своём произведении не над возможным будущим мироустройством России, а над людьми, живущими в описываемом Сорокиным антиутопическом обществе.
Кто же прав? И о чём антиутопический роман «День опричника» Владимира Сорокина, который реально взбудоражил многих читателей своей неоднозначностью в описании будущего нашей страны?
Сюжет романа Владимира Сорокина «День опричника»
Владимир Сорокин описывает в своём романе возможное будущее России.
Действие романа происходит в 2027 году. Страна отгородилась от стороннего мира Великой Русской Стеной, воцарилось самодержавие. Кругом репрессии карательных органов, коррупция.
Автор рассказывает, как проживает один день своей жизни рядовой государевый слуга Андрей Комяга, который служит опричником в самодержавной России.
Живёт опричник Комяга в шикарном тереме, который конфисковали у врага народа. Просыпается он утром с сильного бодуна, а затем едет на службу на мерседесе, к которому привязаны метла и собачья голова, которая ежедневно меняется и символизирует собой пёсью преданность власти. Он наказывает неугодных людей, называемых «столбовыми».
Расправа над ними жестока: дома сжигаются, а жёны насилуются. Выполнив свою миссию по наказанию, ослушавшихся власти, опричники замаливают свои грехи за стенами Кремля в Успенском соборе. А отпустив грехи, Комяга продолжает свой день в распутстве: баня с соратниками и однополая оргия служат укреплению единства опричников и самодержавной власти.
Что отталкивает читателей в романе Владимира Сорокина «День опричника»?
Многие, прочитавшие данное произведение писателя говорят о том, что сцены изнасилования, пыток представлены с перебором и вызывают у них отвращение.
Что привлекает читателей в романе Владимира Сорокина «День опричника»?
Поклонники Сорокина говорят о том, что описываемый один день из жизни опричника заставляет задуматься о завтрашнем дне и поразмышлять о том, что же ждёт нас дальше… И у каждого из нас свой ответ и свои предположения, которые порой неутешительны… Но всё же хочется верить, что описываемые Сорокиным события невозможны… Или же они уже практически стоят у наших дверей.
Читайте роман Владимира Сорокина «День опричника» и делайте свои выводы сами!
Уважаемые читатели и подписчики канала, а как вы думаете, что ждёт Россию в недалёком будущем?
Высказывайте свои мнения в комментариях.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/book_top/den-oprichnika-vladimira-sorokina-antiutopiia-ili-nashe-buduscee-5f5ad478d5e15d30de4e1ed4
Текст книги «День опричника»
Автор книги: Владимир Сорокин
Современная проза
Текущая страница: 8 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Вскакиваем, ножи из ножен выхватываем, воздымаем:
С размаху втыкаем ножи в столы, хлопаем в ладоши так, что люстры дрожат:
– Гойда! Мети, метла!
– Гойда! Мети дотла!
– Гойда! Мети начисто!
Гремит раскатисто голос Бати:
Хлопаем, пока руки не заболят. Исчезает лик Государев. Поднимает Батя бокал:
– Здоровье Государя! Гойда!
– Гойда-гойда! Пьем, садимся.
– Слава Богу, будет нашим работа! – крякает Шелет.
– Давно пора! – вкладываю я нож в ножны.
– Тамошние управы червями кипят! – негодующе трясет золотым чубом Правда.
Гул трапезную наполняет.
За батиным столом разговор вспыхивает. Всплескивает пухлыми руками толстый председатель Общества Прав Человека:
– Отцы мои! Доколе России нашей великой гнуться-прогибаться перед Китаем?! Как в смутное время прогибались мы перед Америкой поганой, так теперь перед Поднебесной горбатимся! Надо же – Государь наш печется, чтобы китайцы правильно свою подать платили!
Вторит ему Чурило Володьевич:
– Верно говоришь, Антон Богданыч! Они к нам в Сибирь понабились, а мы еще должны об их податях думать! Пущай нам больше платят!
Банщик Мамона головой лысой качает:
– Доброта Государя нашего границ не знает.
Оглаживает седую бороду параксилиарх:
– Добротою государевой приграничные хищники питаются. Жвалы их ненасытны.
Откусывает Батя от ноги индюшачьей, жует, а сам ногу ту над столом воздымает:
– Вот это откуда, по-вашему?
– Оттуда, Батя! – улыбается Шелет.
– Правильно, оттуда, – продолжает Батя. – И не токмо мясо. Хлеб, и то китайский едим.
– На китайских «меринах» ездим! – ощеривается Правда.
– На китайских «Боингах» летаем, – вставляет Пороховщиков.
– Из китайских ружей уточек Государь стрелять изволит, – кивает егерь.
– На китайских кроватях детей делаем! – восклицает Потыка.
– На китайских унитазах оправляемся! – добавляю я.
Смеются все. А Батя мудро палец указательный подымает:
– Верно! И покудова положение у нас такое, надобно с Китаем нам дружить-мировать, а не биться-рататься. Государь наш мудр, в корень зрит. А ты, Антон Богданыч, вроде человек государственный, а так поверхово рассуждаешь!
– Мне за державу обидно! – вертит круглой головой председатель так, что тройной подбородок его студнем колышется.
– Держава наша не пропадет, не боись. Главное дело, как Государь говорит: каждому на своем месте честно трудиться на благо Отечества. Верно?
– А коли верно – за Русь! За Русь!
– За Русь! Гойда! За Русь! За Русь!
Вскакивают все. Сходятся бокалы со звоном. Не успеваем допить, как новая здравица. Кричит Бубен:
– За Батю нашего! Гойда!
– За родимого! Здравия тебе, Батя! Удачи на супротивцев! Силушки! Глаза зоркого!
Пьем за рулевого нашего. Сидит Батя, пожевывает, квасом кагор запивает. Подмигивает нам. А сам вдруг два мизинца в замок сцепляет.
Ух ты, мать честная! Сердце сполохнуло: не померещилось ли? Нет! Держит Батя мизинцы замком, подмигивает. Кто надо – видит знак сей. Вот так новость! Баня ведь по субботам, да и то не по каждой… Заколотилось сердце, глянул на Шелета с Правдой: для них тоже новость! Ворочаются, покрякивают, бороды почесывают, усы подкручивают. Посоха конопатый мне подмигивает, щерится.
Славно! Усталость как рукой сняло. Банька! Гляжу на часы – 23.12. Целых сорок восемь минут ждать. Ничего! Подождем, Комяга. Время идет, человек – терпит. И слава Богу.
Бьют часы в зале полночь. Конец трапезе опричной повечерней. Встаем все. Громогласно благодарит Батя Господа за пищу. Крестимся, кланяемся. Направляются наши к выходу. Да не все. Остаются ближние, или по-нашему – опричь-опричные. И я среди них. Сердце бьется в предвкушении. Сладки, ох и сладки эти удары! В зале опустевшем, где слуги быстрые снуют, остались оба крыла, а еще самые проворные и отличившиеся из молодых опричников – Охлоп, Потыка, Комол, Елка, Авила, Обдул, Вареный и Игла. Все как на подбор – кровь с молоком, златочубые огонь-ребята.
Проходит Батя из зала большого в зал малый. Мы все за ним следуем – правое крыло, левое, молодежь. Затворяют слуги за нами двери. Подходит Батя к камину с тремя богатырями бронзовыми, тянет Илью Муромца за палицу. Открывается рядом с камином проем в стене. Ступает Батя первым в проем сей, а мы по положению – за ним. Едва вхожу я туда – сразу запах банный в ноздри шибает! И от запаха того голова кружится, кровь в висках молоточками серебряными стучит: Баня Бати!
Спускаемся по каменной лестнице полутемной вниз, вниз. Каждый шаг туда – подарок, ожидание радости. Одного понять не могу – почему Батя решил сегодня баню обустроить? Чудеса! Сегодня и златостерлядью насладились да еще, стало быть, и – попаримся.
Вспыхивает свет: отворяется предбанник. Встречают нас трое батиных банщиков – Иван, Зуфар и Цао. В возрасте они, в опыте, в доверии. Разные они и по характерам, и по кровям, и по ухваткам банным. Токмо ущерб их роднит: Зуфар и Цао немые, а Иван глухой. Мудро это не токмо для Бати, но и для них – крепче спят банщики опричные, дольше живут.
Садимся, разоблачаемся. Помогают банщики Бате раздеваться. А он времени даром не теряет:
– О деле. Что у кого?
Левокрылые сразу вперед: Воске Серым отбили, наконец, у казначейских подземный Китай-город, теперь вся стройка под нами, Нечай с двумя доносами на князя Оболуева, Бубен с деньгами за откупленное дело, Балдохай в Амстердаме правильно затерся с русской общиной, привез черные челобитные, Замося просит денег на личный ущерб – разбил стрелецкую машину. Батя без слова и упрека единого дает ему пятьсот золотом.
Наши, с правого крыла не так оборотисты сегодня: Мокрый бился с торговыми за «Одинцовский рай», так ничего пока и не добился, Посоха пытал с приказными преступных воздухоплавателей, Шелет заседал в Посольском, Ероха летал в Уренгой насчет белого газа, Правда ставил колпаки, жег квартиру опального. Только я один с прибытком:
– Вот, Батя, Козлова полдела купила. Две с половиною.
Батя кошель принимает, на руке встряхивает, развязывает, десять золотых отсчитывает, дает мне законное. Подводит итог дню:
Еще дни опричные бывают: праздничный, богатый, горячий, расходный, ущербный и кислый. Молодые сидят, слушают, уму-разуму набираются.
Исчезают деньги и бумаги в белом квадрате, светящемся в стене старой кладки. Спускают банщики с Бати порты. Шлепает он руками по коленям:
– А у меня для вас новость, господа опричные: граф Андрей Владимирович Урусов голый.
Сидим оторопело. Баддохай рот первым раскрывает:
– А вот так, – чешет Батя муде увесистое, обновленное. – Снят по указу Государевому со всех должностей, счета арестованы. Но это еще не все.
Обводит нас командир взором испытующим:
– Дочь Государя, Анна Васильевна, подала на развод с графом Урусовым.
Вот это да! Это действительно – новость! Государева семья! Не сдерживаюсь:
Сразу же мне Батя справа – кулаком в челюсть:
– Прости, Батя, нечистый попутал, не сдержался…
– Еби свою мать, дешевле выйдет!
– Ты же знаешь, Батя, померла мать моя… – на жалость пробиваю.
Молчу, утираю исподницей губу рассеченную.
– Я из вас дух охальный, смутный повыбью! – грозит нам Батя. – Кто уста матом сквернит – тот в опричнине не задерживается!
– Так вот, – продолжает он. – На развод, стало быть, подала дочь Государева. Думаю, патриарх их не разведет. А митрополит Московский развести может.
Может. Понимаем. Очень даже может. Запросто! Вот тогда Урусов будет совсем голый. Даже очень голый. Мудро Государь внутреннюю политику кроит, ох, мудро! С семейной стороны коли глянуть – что ему пасквиль этот? Мало ли чего крамольники подпольные понапишут… Все-таки, как-никак, зять, супруг дочери любимой. А коли с государственной стороны приглядеться – завидное решение. Лихо! Недаром Государь наш всем играм городки да шахматы предпочитает. Просчитал он комбинацию многоходовую, размахнулся да со всего плеча и метнул биту в своих же. Выбил из Круга Внутреннего жирного зятя. И сразу любовь народную к себе вдвое, втрое укрепил! Круговых озадачил: не зарывайтесь. Приказных подтянул: во как государственный муж поступать должен. Нас, опричных, ободрил: нет в России Новой неприкосновенных. Нет и быть не может. И слава Богу.
Сидят оба крыла, головами покачивают, языками поцокивают:
– Урусов – голый. Не верится даже!
– Вот те раз! Москвой ворочал!
– В фаворе государевом сиял…
– Дела ворошил, людишек тасовал.
– На трех «роллс-ройсах» ездил.
Что верно, то верно – три «роллс-ройса» были у Урусова: золотой, серебряный и платиновый.
– А таперича на чем же он поедет? – спрашивает Ероха.
– На хромой козе електрической! – отвечает Замося.
– Ну, да и это не последняя новость, – встает голый Батя.
– К нам он сюда подъедет. В баньку. Попариться да защиты попросить.
Кто встал – снова сели. Это уж совсем ни в какие ворота! Урусов – к Бате? С другой стороны, ежели здраво рассудить – куда ему теперь соваться-то, голому? Из Кремля его Государь вышиб, деловые от него шарахнутся, приказные – тоже. Патриархия его за блуд не пригреет. К Бутурлину? Они друг друга терпеть не могут. К Государыне? Падчерица ее презирает за «разврат», она падчерицу ненавидит, а мужа падчерицы, хоть уже и бывшего, и подавно. В Китай графу дорога закрыта: Чжоу Шень-мин – друг Государев, против его воли не пойдет. Что же графу делать? В имении отсиживаться да ждать, когда мы с метлами прикатим? Вот он и решился от отчаянья – к Бате с поклоном. Правильно! Голому – токмо в баньку и дорога.
– Вот такие у нас пироги с опилками, – подытоживает Батя. – А теперь – баня!
Входит Батя первым в банные хоромы. А мы, голые, аки адамы первородные, за ним. Баня у Бати богатая: потолки сводчатые, колоннами подпертые, пол мраморный, мозаичный, купель просторная, лежаки удобные. Из парной уже хлебным духом тянет – любит Батя с кваском попариться.
И сразу команда от него:
В бане своей Батя полный главнокомандующий. Устремляемся в парную. А там уж ждут Иван в шапке войлочной, в рукавицах, с двумя вениками – березовым да дубовым. И начинается карусель: ложимся на полоки, поддает глухой Иван пару хлебного, крякает, да с непривычно громкими шутками-прибаутками начинает опричных вениками охаживать.
Лежу, глаза закрыв. Жду своей участи, пар вдыхая. И дожидаюсь: вжиг, вжиг, вжиг – по спине, по жопе, по ногам. Опытен Иван в банной брани до невозможности – пока не выпарит как положено – не успокоится. Но у Бати перепариваться не след, ибо ждут другие удовольствия. От предвкушения которых у меня даже в парной сердце холодит.
А Иван знай парит, приговаривает:
Аи, чучу, аи, чучу!
Я горох молочу
Назло Явропя
На опричной жопя!
Будет жопа бяла
На большие дяла!
Жопу салом смажем,
Явропе покажем!
Стара прибаутка Ивана, ну да и сам он не молод: некому в Европе уже русскую жопу показать. Приличных людей не осталось за Западной стеной. Дала дуба Европа Агеноровна, одни киберпанки арабские по развалинам ползают. Им что жопа, что Европа – все едино…
Шуршит-шелестит веник дубовый у меня над затылком, а березовый пятки щекочет:
Сползаю с полка и попадаю в цепкие руки Зуфара: теперь его черед. Хватает он меня, как куль, на спину взваливает, выволакивает из парной. И с разбегу – в купель мечет. Ох, лихо мне! Все справно у Бати – и пар горячий, и водица ледяная. До костей пробирает. Плаваю, в себя прихожу. Но Зуфар роздыху не дает – тянет наверх, кидает на топчан, вспрыгивает мне на спину, да ногами своими начинает по мне ходить. Хрустят позвонки мои. Ходят ноги татарские по русской спине. Умело ходят – не повредят, не разрушат, не раздавят… Сумел Государь наш сплотить под крылом своим могучим все народы российские: и татap и мордву, и башкир, и евреев, и чеченов, и ингушей, и черемисов, и эвенков, и якутов, и марийцев, и карелов, и каряков, и осетинцев, и чувашей, и калмыков, и бурятов, и удмуртов, и чукчей простодушных, и многих-многих других…
Окатывает меня Зуфар водицей, передает Цао. И вот уже я в обмывочной полулежу, в потолок расписной гляжу, а китаец меня моет. Скользят мягкие и быстрые руки его по моему телу, втирают пену душистую в голову, льют пахучие масла на живот, перебирают пальцы на ногах, растирают икры. Никто так не вымоет, как китаец. Знают они, как с телом человеческим управляться. На потолке здесь сад райский изображен, а в нем – птицы да звери, голосу Бога внемлющие. Человека в саду том еще нет – не сотворен. Приятно смотреть на сад райский, когда тебя моют. Просыпается что-то в душе давно забытое, салом времени затянувшееся…
Окатывает Цао водицей прохладной из липовой шайки, помогает встать. Бодрость и готовность охватывают после китайского мытья. Прохожу в главный зал. Здесь постепенно все собираются, через русско-татарско-китайский конвейер пройдя. Чистыми розовыми телами на лежаки плюхаются, безалкогольные напитки потягивают, словами перебрасываются. Уж и Шелет с Самосей выпарились, и Мокрый стал просто мокрым, и Воск с кряканьем рухнул на лежак, и Ероха благодарно охает, и Чапыж с Бубном жадно квас глотают, в себя приходя. Велика сила братства банного! Все тут равны – и правые и левые, и старики и молодь. Намокли чубы позолоченные, растрепались. Развязались языки, расплелись:
– Самося, а ты куда этому полковнику въехал-то?
– В бок тиранул на повороте с Остоженки. Харя стрелецкая струхнул, из кабины не вылезал. Потом ихние приехали с квадратом, с рукой, постовой свернулся, я в хорошие не прошел, ну и с дубьем бодаться не стал…
– Братья, новый кабак открылся на Маросейке – «Кисельные берега». Любо-дорого: кисель двенадцати сортов, водка на липовой почке, зайцы во лапше, девки поют…
– На масленицу Государь спортсменов одаривать будет: гиревикам – по «мерину» водородному, городошникам – мотоциклы курдючные, бабам-лучникам – по шубе живородящей…
– Короче, заперлись гады, а шутиху Батя запретил пользовать – дом-то не опальный. Газ и лучи тоже нельзя. Ну, мы по старинке – в нижнюю квартиру: то да се, наверху враги. Попросили их по-государственному, они с чемоданом да с иконами вышли, мы подпалили, дырки сделали, стали верхних выкуривать, думали – отопрутся, а те – в окно. Старший – на забор печенкой, а младший с ногой выжил, потом показания дал…
– Авдотья Петровна самолично жопою своею огромадной ломала унитазы, вот те крест…
– Вот дурень! Яйцы подбери, по полу катаются!
– Бубен, а правда, что теперь серые прибытки в Торговой закрывают вкруговую через целовальников?
– Не-а. Через целовальников токмо надбавки проходят, а серые по-прежнему крытые подьячие правят.
– Во враги! Никакой кочергой их не выковыришь…
– Подожди, брат Охлоп, до осени. Всех повыковорим.
– Осень, осень, жгут корабли-и-и-и… молодой, ты где кололся?
– Красиво. Особливо – низ, с драконами… Я тоже хотел вкруг охлупья табун диких лошадей пустить, а колун воспротивился: разрушит композиционное равновесие, говорит.
– Правильно, брат. У тебя охлупье зело волосато, а ежели выводить – зиянье получится нелепое. На то зиянье токмо две рожи поместятся: Цветова да Зильбермана!
– А-ха-ха-ха! Уморил еси!
– Новый «Козлов» бьет получше, чем «Дабл Игл»: кладку в два кирпича прошибает с поражением на вылете, а у них – в полтора. Зато отдача у нас поувесистей.
– Ну и хорошо – крепи десницу.
– Дай-кось, брат Мокрый, мне кваску глотнуть.
– Глотни Христа ради, брат Потыка.
– Заладили – откуп, откуп… Какого рожна мне копать под откупа? Там палку не срубишь, а шишек набьешь…
– Оха-моха, не любит меня брат Ероха!
– Стукну в лоб, бузотер!
– Слыхали, почему Государь Третью Трубу перекрыл? «Шато Лафит» опять ко Двору не поставили говнодавы европейские: полвагона в год и то не набирается!
– А кому там нынче вино нужно? Киберпанки кумыс пьют!
Последним, как всегда, сам Батя парится. Пропускают банщики широкое тело батино через руки свои, подводят к нам. Подхватываем родного:
– Батя, с легким паром!
– Чтоб в косточки пошло!
– В становой хребет!
Пышет жаром батино тело:
– Ох, Пресвятая… квасу!
Тянутся к родному чаши серебряные:
Обводит Батя нас очами осоловелыми, выбирает:
Подает Воск чашу Бате. Конечно, сегодня левые в фаворе. Поделом. Заработали.
Осушает Батя чашу квасу медового, переводит дух, рыгает. Обводит нас очами. Замираем. Выжидает Батя, подмигивает. И произносит долгожданное.
Притухает свет, выдвигается из стены мраморной рука сияющая с горстью таблеток. И как исповедавшиеся к причастию, так ко длани возсиянной встаем мы в очередь покорную. Подходит каждый, берет свою таблетку, кладет в рот под язык, отходит. Подхожу и я. Беру таблетку, на вид невзрачную совсем. Кладу в рот, а пальцы уж дрожат, а колени уж подкашиваются, а сердчишко уж молотом беспокойным стучит, а кровь уж в виски ломится, как опричники в усадьбу земскую.
Накрывает язык мой трепещущий таблетку, яко облако храм на холме стоящий. Тает таблетка, сладко тает под языком, в слюне хлынувшей на нее, подобно реке Иордань по весне разливающейся. Бьется сердце, перехватывает дыхание, холодеют кончики пальцев, зорче глаза видят в полумраке. И вот долгожданное: толчок крови в уд. Опускаю очи долу. Зрю уд мой, кровью наливающийся. Восстает уд мой обновленный, с двумя хрящевыми вставками, с вострием из гиперволокна, с рельефными окатышами, с мясной полною, с подвижной татуировкою. Восстает аки хобот мамонта сибирского. А под удом удалым штепливается огнем багровым увесистое муде. И не только у меня. У всех причастившихся от длани сияющей муде затепливаются, словно светлячки в гнилушках ночных на Ивана Купала. Загораются муде опричные. И каждое – своим светом. У правого крыла свет этот из алого в багровый перетекает, у левого – от голубого в фиолетовый, а у молодняка – зеленые огоньки всех оттенков. И токмо у Бати нашего муде особым огнем сияет, огнем ото всех нас отличным – желто-золотое муде у Бати дорогого. В этом – великая сила братства опричного. У всех опричных муде обновленное китайскими врачами искусными. Свет проистекает от муде, мужественной любви возжелавших. Силу набирает от уд воздымающихся. И покуда свет этот не померк – живы мы, опричники.
Сплетаемся в объятьях братских. Крепкие руки крепкие тела обхватывают. Целуем друг друга в уста. Молча целуем, по-мужски, без бабских нежностей. Целованием друг друга распаляем и приветствуем. Банщики между нами суетятся с горшками глиняными, мазью гатайской полными. Зачерпываем мази густой, ароматной, мажем себе уды. Снуют бессловесные банщики аки тени, ибо не светится у них ничего.
– Гойда! – восклицает Батя.
– Гойда-гойда! – восклицаем мы.
Встает Батя первым. Приближает к себе Воска. Вставляет Воск в батину верзоху уд свой. Кряхтит Батя от удовольствия, скалит в темноте зубы белые. Обнимает Воска Шелет, вставляет ему смазанный рог свой. Ухает Воск утробно. Шелету Серый заправляет, Серому – Самося, Самосе – Балдохай, Балдохаю – Мокрый, Мокрому – Нечай, а уж Нечаю липкую сваю забить и мой черед настал. Обхватываю брата левокрылого левою рукою, а правой направляю уд свой ему в верзоху. Широка верзоха у Нечая. Вгоняю уд ему по самые ядра багровые. Нечай даже не крякает: привык, опричник коренной. Обхватываю его покрепче, прижимаю к себе, щекочу бородою. А уж ко мне Бубен пристраивается. Чую верзохой дрожащую булаву его. Увесиста она – без толчка не влезет. Торкается Бубен, вгоняет в меня толстоголовый уд свой. До самых кишок достает махина его, стон нутряной из меня выжимая. Стону в ухо Нечая. Бубен кряхтит в мое, руками молодецкими меня обхватывает. Не вижу того, кто вставляет ему, но по кряхтению разумею – уд достойный. Ну, да и нет среди нас недостойных – всем китайцы уды обновили, укрепили, обустроили. Есть чем и друг друга усладить, и врагов России наказать. Собирается, сопрягается гусеница опричная. Ухают и кряхтят позади меня. По закону братства левокрылые с правокрылыми чередуются, а уж потом молодежь пристраивается. Так у Бати заведено. И слава Богу…
По вскрикам и бормотанию чую – молодых черед пришел. Подбадривает Батя их:
– Не робей, зелень!
Стараются молодые, рвутся друг другу в верзохи тугие. Помогают им банщики темные, направляют, поддерживают. Вот предпоследний молодой вскрикнул, последний крякнул – и готова гусеница. Сложилась. Замираем.
– Гойда! – кричит Батя.
– Гойда-гойда! – гремим в ответ.
Шагнул Батя. И за ним, за головою гусеницы двигаемся все мы. Ведет Батя нас в купель. Просторна она, вместительна. Теплою водою наполняется, заместо ледяной.
– Гойда! Гойда! – кричим, обнявшись, ногами перебирая.
Идем за Батей. Идем. Идем. Идем гусеничным шагом. Светятся муде наши, вздрагивают уды в верзохах.
Входим в купель. Вскипает вода пузырями воздушными вокруг нас. По муде погружается Батя, по пояс, по грудь. Входит вся гусеница опричная в купель. И встает.
Теперь – помолчать время. Напряглись руки мускулистые, засопели ноздри молодецкие, закряхтели опричники. Сладкой работы время пришло. Окучиваем друг друга. Колышется вода вокруг нас, волнами ходит, из купели выплескивается. И вот уж подступило долгожданное, дрожь по всей гусенице прокатывается. И:
Дрожит потолок сводчатый. А в купели – шторм девятибалльный.
Источник статьи: http://itexts.net/avtor-vladimir-georgievich-sorokin/26838-den-oprichnika-vladimir-sorokin/read/page-8.html