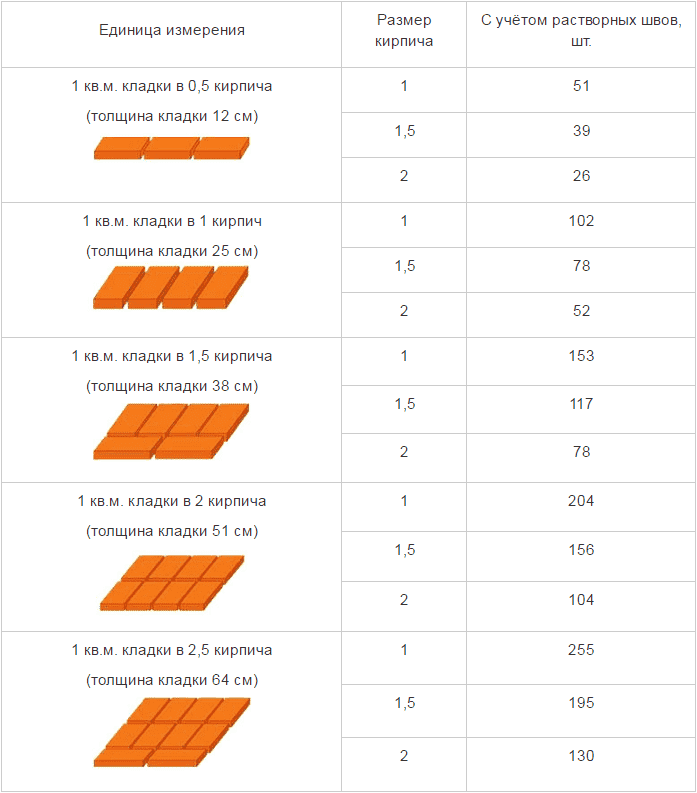Почему ходить в баню с противоположным полом можно и нужно?
Привет уважаемый читатель!
Парить людей вениками в парилке — моё хобби. Периодически оно даже приносит денежку. В основном, конечно парю мужчин, но бывают исключения, когда я парю женщин. О паре таких историй я писал на этом канале.
Интересны были комментарии, их можно разделить на три типа. Первые и самые многочисленные, комментаторы ищут эротический подтекст. Вторые наоборот, обращают свой взор к нравственной стороне этого действа. Третьи одобряют, разделяя увлечение.
Хочу высказать свое отношение к совместному посещению бани и парной мужчин и женщин.
Моральная составляющая вопроса — почему можно?
Попасть в баню с представительницами прекрасной половины человечества, это не самоцель. Но иногда такое случается. Это могут быть праздники в сауне с компанией, общие бани на фестивалях, поход в баню на даче. В любом случае, это не целенаправленный поиск и отказываться от бани, из-за того, тут возможна встреча с женщинами, на мой взгляд глупость. Причем как правило в такие бани, мы приходим с женой.
Второй момент, в общей бане я не раздеваюсь. Обернувшись полотенцем или простыней вокруг пояса, можно чувствовать себя вполне комфортно. Женщины в парной, как правило, тоже в купальнике или в простыне. Не многим отличается от пляжа, не правда ли?
Момент третий, я иду париться, dixi. Не искать какой-то подтекст в соседстве с дамами в парной, а просто попариться в приятной компании. Тем людям, у которых падает планка, при виде женщины в простыне, рекомендуется наладить свою личную жизнь.
Присутствие противоположенного пола в парной, лично мне ни сколько не помешает нормально попариться. Нотки пикантности в такой бане не избежать, но право так же веселее.
Энергия царящая в общей бане — ради этой потрясающей ауры тут стоит побывать.
Если в бане парятся люди, которые давно знакомы, то как правило это приятная компания, а значит хорошее настроение и атмосфера.
На выходе получается, что посещение парной вместе, придает красок и оставляет ощущение причастности к какому-то древнему таинству. К тому времени, когда банные традиции были другими, а соседство мужской и женской энергии, рождало удивительную, добрую ауру. Почувствовать это на себе, удовольствие, которое хочется испытать снова.
Баня и стереотипы.
К сожалению, последние пара десятилетий, крепко вбили в наши головы ассоциации, что баня (сауна) и (назовем это так) разврат — звенья одной цепи. Сцены из фильмов и книг, газетные статьи, часто и много, рассказывали о отдыхе в компании девиц легкого поведения, конечно же в сауне.
Безусловно, баня место где происходят достаточно интимные процессы, раздевания, парения, помывки. Нормально, что в бане могут разыграться фантазии относительно противоположенного пола (Так же, нормально, что кто-то наоборот, не представляет эти процессы в общей бане).
Я же хочу донести мысль, что смысл и эффект бани, размывается за этими стереотипами. Уважаемые читатели, попробуйте получить от бани, веника, хорошей компании удовольствие и энергетику, другого характера. Когда от пара радуется тело и ликует душа.
А для тесного общения с противоположенным полом, есть другие места, поудобнее, проверено))
Читайте другие статьи про баню:
Жмите палец, если статья понравилась. Близки темы, про баню, туризм, сплавы и прочие мужские интересы? — Подписывайтесь на канал «Мужской журнал МотоР» .
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5c99cb2da354b200b305e6da/pochemu-hodit-v-baniu-s-protivopolojnym-polom-mojno-i-nujno-5d2584ac43bee3023e34b17d
Слепой в женской бане, или История одной командиро
Отцам нашим, вернувшимся и не вернувшимся с войны,
их жёнам, и мамам — моего поколения
ПОСВЯЩАЕТСЯ
В женский помывочный день в баню попросился слепой.
Это был ладно скроенный парень, годков около тридцати, в стоптанных кирзовых сапогах, в старенькой запылённой гимнастёрке с двумя орденскими планками на груди и котомкой за плечами, в гражданских брюках – с опалённым лицом и неподвижным, безжизненным, взглядом. В те, послевоенные, годы подобного вида калеки были не вновь, а этот, обращая на себя внимание, как-то сразу вызывал сострадание.
Раньше здесь его никто не видел.
И никто не видел, как он появился на этом таёжном полустанке, населенье которого едва насчитывало четыре десятка дворов: старики да бабы, и вдовицы. Все, в основном – путевые рабочие, лихо вколачивающие костыли в пропитанные креозотом шпалы, да двигающие, при рихтовке пути, многотонные стальные рельсовые плети не хуже любого гожего для такой работы дюжего мужика. И ещё проживала здесь немногочисленная всякого там иного рода железнодорожная обслуга – из числа неспособного к тяжёлому путейскому труду пенсионеров. В общем, это притулившееся к стальной магистрали селеньице трудно было назвать полустанком. Скорее всего – разъездом, где останавливался всего пару раз в неделю, и то по выходным да праздничным дням, пассажирский поезд местного значения – прототип нынешних электричек, составленный из двух допотопных плацкартных вагонов; и ещё – дымные товарники, пропускавшие вперёд себя скорые – цельнометаллические пассажирские составы, которые тащили за собой отживающие свой век шумные паровые торопыги, да – суетливо проскакивавшая туда – сюда, в так называемые технологические окна, грузовая мотодрезина.
Так что абсолютно непонятно было, как сюда он попал, в этакую глухомань, и откуда взялся, этот горемыка, и к тому же ещё, видимо, один – без семьи и близких ему людей, где и здоровому-то человеку в одиночку выжить непросто?
И почему, собственно, не в мужской, урочный, помывочный день он пришел в баню?
На все эти вопросы вряд ли у кого из местных были ответы, разве что на последний из них: ну пришёл, и пришёл – что тут гадать.
И был он, этот горемыка, такой уж больно жалкий да занехаенный, что сердобольная банщица Василиса призадумалась, сразу не сообразив, что ответить ему по существу, кроме как: мол… дескать, куда тебе там… там же ведь женщины!
–Ну и что? – ответил ей слепой. – Что меня стыдиться, я ведь ничего не вижу. Пристроишь где-нибудь в уголочке, а я срам свой полотенцем прикрою. Мне и простирнуть кое-что надо. Я быстро. Я сам всё умею – не затрудню и не обеспокою.
–А ты, чей-то будешь? – смекнула, наконец, Василиса задать вполне естественный в этой ситуации вопрос.
–Мои погибли в сорок первом, в Подмосковье, – ответил горемыка. – А здесь – родня, по матери: Сорокины. Знаешь?! Не могу же я к ним немытым явиться.
-Эх! Милый! Сорокиных твоих уж год, поди, как нет. Война закончилась, они и снялись – уехали, не знаю куда. Сказывали, что в хлебные края. А пятистенок их стоит, да никто в нём не живёт.
Повисшая пауза, видимо, и решила дело.
–Ладно, пойду с бабами поговорю. Быть может, и согласятся. – Сказала Василиса и заковыляла внутрь пакгауза, в котором и была оборудована сама баня.
Войдя в моечный зал, сплошь обитый осиновой вагонкой, Василиса на минутку присела на табурет, стоявший у двери, собираясь с духом и не зная как сообщить подругам о просьбе незваного гостя.
В зале, что называется, стоял дым, а точнее – пар, коромыслом.
Таинство действа было в самом разгаре. Именно то таинство, которого не видел во всех подробностях во веки веков ни один мужчина. И оно, это самое таинство, судя по всему, должно было за-тянуться надолго.
Это же какая женщина, откажет себе в ублажении своего собственного т ела!? Здесь каждый дюйм его – каждый пальчик, каждый ноготок, не говоря уже об интимных деталях, достойны особого поклонения и заботы.
А тут их, румяных, да пышнотелых, бабёнок, добрый десяток!
Молодые и не очень, но все – как говорится, кровь с молоком – здоровые, сочные до невозможности, и, как будто бы на подбор, ладно скроенные девицы. А на лёгком пару, тем более – глаз не отведёшь.
Так уж повелось, что именно баня на селе была и остаётся единственным средством, способным без каких-то там косметических салонов, тем более, самых новомодных и супер навороченных, о которых, в описываемое мною время никто и малейшего понятия не имел, чтобы привести женщине себя в порядок; да ещё с превеликим удовольствием, и не потерять при этом собственного достоинства, дарованного ей ещё во времена нашей прародительницы Евы, или, если хотите, Лилит.
Первой Василису заметила Мотя, она же – Матрёна, прозванная «Кувалдочкой» – за недюжинную для женщины силу, которой она ловко распоряжалась, перебрасывая многопудовые противовесы на железнодорожной стрелке, чтобы пропустить или принять очередной толи пассажирский, толи товарный состав, или же перевести их на запасной путь. На этом посту она в своё время сменила своего мужа, ушедшего на войну, и, не дождавшись его после Победы, там и осталась, будто бы прикипела к его месту и памяти.
–Ну, чёж ты там застряла, – окликнула она Василису, – скидывай портки да присоединяйся к нам, время-то не резиновое, его не наверстаешь. Али тебе дома делать нечего?
Делать дома Василисе было что, и задерживаться после работы надолго ей было не с руки. Но как быть с солдатиком – не откажешь же ему в его просьбе?
–Мотя, подь сюда. Дело есть, – поманила стрелочницу к себе Василиса, и, когда та подошла, поведала ей о сложившейся ситуации. Та задумалась на пару минут, и по праву старшинства: как-никак в родстве с начальством состоит – её двоюродный племянник был начальником ПЧ, то бишь, путевой части, вынесла свой вердикт:
–Слепой, говоришь. Ну и что? Зови. Не сглазит ведь. Впрочем, погоди.
И, по-вернувшись к бабам, громогласно провозгласила на весь зал:
–Девоньки, тут к нам мужик на помывку просится! Как быть? Может, примем?
Что тут поднялось! Садом и Гоморра: и визг, и смех, шутки и прибаутки, и вопросы, наперебой, главные из которых: «А он молод?» и «Хорош ли собой?».
Но всех сразу охладил Мотин ответ:
–Молодой-то, он молодой. И не косой. И не кривой. Да не про вас фрукт. Васи-лиса говорит, сиротка он – солдатик. Да к тому же – слепой.
–Как, совсем слепой? – спросил кто-то.
–Совсем, совсем. Так что радоваться вам, бабоньки, нечему, да и смотреть там не на что.
Все как-то разом и поутихли.
– Ну, что тут рассуждать, раз такие наши дела, то пусть моется, — произнёс чей-то голос. – Веди. Не сглазит — и то хорошо.
Василиса, под пристальными взглядами уважаемого женского собрания, провела солдатика, который, по сути, годился ей в сыновья, в уголок для беременных. Там, для удобства моющихся, справа от мраморной, в крошку, скамьи, был обустроен душ, а слева, на полке, два крана – с горячей и холодной водой, и шайкой для мытья, в которую наливалась эта вода. А ещё под ногами были уложены резиновые коврики, чтобы, не дай бог, той, что на сносях, не поскользнуться.
Привела, что и как, и к чему, рассказала, дала возможность служивому самому пощупать всё обустройство своими руками, принесла ещё одну шайку – для постирушки, и отошла к двери помывочной, где уселась на табурет, чтобы проконтролировать, правильно ли тот понял её объяснения? И не нуждается ли в какой-нибудь сиюминутной по-мощи? А когда увидела на его обнажённой спине рубцы, словно струпья усеявшие тело, всплакнула о сыне, который ушел на войну, отказавшись от брони, да так через год, и сгинул там без вести; заплакала, запричитала: «Где же он, мой соколик ясный? Может, вот так же, как он, этот солдатик, скоро объявится?». А, успокоившись, со временем, присоединилась к подружкам, чтобы успеть и самой помыться в урочный час.
Некоторое время женщины с любопытством наблюдали за слепым: и как он раздевался, повернувшись к ним спиной, и как набрал в одну из шаек холодной, а затем, горячей воды, и как, замочив снятое с себя нижнее бельё, и, отставив шайку на край скамьи, стал под душ. В общем, всё было, как говорится в этих краях, чин-чинарём: во всей этой его сноровке и определённой самостоятельности чувствовалось, что он не впервой в общей бане и потому вполне обойдётся без какой-то там посторонней, а тем более, ежесекундной опеки. А поняв это, девоньки наши вновь занялись собой. Заговорили, зашептались, захихикали. И только одна из них молча, словно задумавшись, отрешённо сидела на скамье и безотрывно глядела на моющегося солдата.
–Влюбилась, что ли? Али мужиков в городе поубавилось? – заметив этот взгляд, обронила только что вышедшая из парилки Мотя. Обронила, словно сплюнула – со свойственной только женщинам толикой яда. – Зайди, попарься – сразу полегчает.
— Да нет, не убавилось, — встрепенувшись, отпарировала молодуха, – только все они, мужики эти, о которых ты байку баешь, все – до единого, к чужим юбкам крепко-накрепко пристёгнуты. А бабы их – ох, какие злющие! За своего мужика любой из нас бошку сразу же оторвут. Небось, знаешь. И нечего дурочкой прикидываться. А мне, дорогая моя Кувалдочка, свой, родной – пристёгнутый, нужен. И ни какой иной!
Встала, потянулась, расправила плечики, демонстративно потрясла своими упругими грудями, на зависть всем другим особям женского пола, и, прищурившись, будто прицеливаясь, засмеялась:
–Эх, мужика, доброго бы, счас! Да хоть бы пощупать его, по-первой, родимого, что ли! А то совсем одичала.
Лизку Окуневу с детства знали как своенравного ребенка – резвую попрыгунью и заводилу среди немногочисленной детворы разъезда – в общем, сорвиголову, или – продвинутую, как бы сказали нынче. Рано ставшая самостоятельной, поскольку после четырехлетки была сразу отправлена к своякам в соседнее село на учебу – в семилетку. А затем уже – в город, где, окончив бухгалтерские курсы, и помыкавшись по съемным углам в переполненных коммуналках, и, не найдя своего женского счастья, чему в немалой степени способствовала война, вернулась, в родные пенаты. Вернулась, чтобы клещами таскать шпалы, обильно смазанные креозотом, и забивать в них костыли, перешивая стальные плети «железки», и надеяться на светлое будущее, и лишь изредка, наведываться в город на часок – другой: в свою прошлую жизнь.
И вот теперь стояла она, распаренная, посреди зала во всей своей красе –стройненькая, дробненькая, и крепенькая, но уже с мозолистыми и жесткими ладошками ранее нежных рук и не менее жестким взглядом. Стояла как настоящая сибирская дива – вовремя созревшая молодая осина, которую не согнуть и не сломать, даже если очень и очень захочешь. Стояла и думала о чём-то своём, по-женски заветном, в котором сам Бог не разберётся, разве что – Сатана.
«Ну, всё – пропал наш солдатик!» – подумала Матрёна, потому и крикнула грозно — по праву старшинства:
–Ты что же тако удумала, Лизка? Не дури!
А та лишь отмахнулась, и, напевая вполголоса, популярный, в то время, среди вдовушек, романс: «И я была девушкой юной, сама не припомню когда…», решительно направилась в закуток, где маячила, занятая стиркой, одинокая мужская фигура. И приблизившись к ней вплотную, осторожно потрогала пальчиками рубцы на спине служивого, и, приобняв его за плечи, сунула в руки солдатика предварительно намыленную мочалку, и мягонько, тоном, не терпящим отказа, так, чтобы все, без исключения, услышали, промурлыкала:
–Ну-ка, родной, ты – мой ласковый, прояви сноровку и потри-ка мне спинку. Что-то я, без тебя, молодая, незамужняя, и красивая, по мужской силе дюже соскучилась.
И, не теряя времени, она ловко проскользнув между ним и шайкой, наполненной теплой водой, приказала опешившему парню:
–Ну, что ты стоишь пень – пнём, или моего тела не чуешь? – прикрикнула она, – Давай, три. Вот так. Молодец. – отдавала Лизка команды. – А теперь пониже… Так…Теперь – лопаточки…Теперь ниже. Еще ниже. Спинку-то, спинку! Ниже, говорю. Ой. Ой-ё-ёй. Её-ё-ёй.
Это какой же мужик выдержит такое искушение, тем более слепец, у которого радости в его душевной котомке не на грош? Тут даже, если тебя на плаху тащить будут, да голову отрубать – не оторвёшься!
В общем, случилось то, что и должно было случиться. И пусть простит его, этого горемыку, Божья Матерь, что сорвал он ненароком этот отнюдь не запретный, но вовремя подвернувшийся, плод.
Дивились бабы, стоймя стояли, молчали – словно обухом по голове тюкнутые. И, будто бы осуждая: «Чтобы вот так. Да еще прилюдно. », всё-таки, по доброму, завидовали: «Слепой-то он – слепой, да дело своё славно как знаёт!»
А Лизка не унималась, верещала и верещала, вертясь под солдатиком:
–Ой, бабоньки, да что ж это такоё происходит?! Спасите, помогите! Ах, ты – такой-сякой нехороший, что же это со мной делаешь – девицею непорочной!? Говоришь, слепым-слепой, а сам лучше, чем зрячий.
Тело её волновалось, а глаза смеялись, лучились от удовольствия и, пожалуй, ещё – от счастья, что так повезло с мужиком.
Первой пришла в себя Василиса:
–И чё ж это тако деется, девочки? Сучка она непотребная! Стыд-то какой. Окстись! Как же, так-то, с убогим солдатиком, да к тому же ещё и слепым, как с чуркой безмозглым обращаться? – всполошилась она, словно квочка, похлопывая себя по бедрам. — Сучка, она и есть сучка. Ни стыда, ни совести. Мерзопакостница, да и только.
–И то – правда. Раз так не можется, то можно же было сделать это в тихоря, а не выставлять себя напоказ, – вторила ей Анна, заведовавшая продуктовым ларьком на разъезде.
–Это как же? Как ты, что ли? – съязвила молодая, да, как говорится – из ранних, дежурная по разъезду Ксюша, присланная по разнарядке из центра. – Знам, знам про того шоферюгу из райПО, что по ночам в твой «огород» шастат. Смотри, как бы не надорвался, грядки твои пропалывая, а то жене ничего не достанется – подражая местному говору, – прикалывалась молодуха.
-Тебе-то что? Завидуешь, что самой не достаётся? – отпарировала Анна, – тоже мне нравственица объявилась!
–Вот ещё.
–Ах, молодца! Окольцевала парня. Только надолго ли? – выдала свой комментарий молчавшая до того всё время кладовщица Полина. – Не то, что мы, бабоньки.
В общем, высказались все кому не лень. Лишь Мотя не вступила ни с кем в перепалку, а только подняла свою здоровенную ручищу и прикрикнула:
–Хватит собачиться, бабы, цыц.
И когда все успокоились, подошла к тесно обнявшейся парочке, смиренно сидевшей уже на скамье в уголке для беременных, и спросила:
–Ну, и что ты за спектакль здесь сотворила, Лизавета? И как нам теперь понимать это? И что прикажешь делать, га? Объясни-ка нам – тупой деревенщине – как-нибудь попроще.
–А что объяснять? – вскинулась, обернувшись, красная то ли от стыда, то ли от прилившего возбуждения, Лизка. – И объяснять нечего: мой он! Мой! Всю жизнь ждала.
–Брешешь! Знаем мы тебя, шлёндра ты непутевая. Поматросишь, да бросишь парня служивого, – крикнула во весь голос Танька – самогонщица, прозванная подругами за её показную скромность Тихоней.
–Много понимаешь, курицына дочка! – Взъярилась Лизка. – Не дождёшься! Ишь, прицелилась уже. Не отдам! Во! – скрутила она кукиш. – Накоси – выкуси! Не отдам! И не мылься!
И заплакала, и запричитала:
–И за что вы на меня так окрысились, девочки? Пошто так собачитесь, бабы придурашные, будто бы я у вас последний кусок хлеба отнимаю, да ещё при моём-то парне. Мой он! Мой! Долгожданный – недолюбленный, недокоханный. Эх, вы! Чёж не радуетесь счастью нашему?
–С чего это? – выкрикнула кладовщица Полина.
–А я что? Я что – прокаженная, что ли? – вновь вскинулась Лизка.– Я! Я! – захлёбывалась она в крике, – я разве не имею права на свое маленькое простое женское счастье? А насчёт стыда – извиняйте, если что не так. Так уж получи-лось.
И засмеялась.
–Карта на карту легла! – вступилась за Лизку Мотя. – Шабаш, я сказала!
От её гневного оклика все как-то сразу смолкли.
А Лизка, обернувшись к слепому солдату и, крепко прижав его к своей груди, громко – так, чтобы слышали все, спросила:
–Ну, что, служивый, такой-сякой нехороший, возьмёшь меня в жены?
–Поживём – увидим, – помолчав, уклончиво ответил тот.
–Ну, вот, девочки, товарки мои ненаглядные, будем считать, что обручение молодых состоялась. Милый сказал: «Поживем и увидим», а я уж, будьте уверены, постараюсь. Так что будьте свидетелями и милости просим вас всем кагалом своим к нам на свадьбу! – объявила Лизка.
–Да ты-то хоть знаешь, как зовут его, солдата этого? – крикнула, прячась за спинами подруг конопатая Верка – путевая обходчица, прозванная Рыжиком за свою огненную шевелюру.
–А как же – Андреем!
–Ну, и шельма, эта Лизка, ишь, как всё продумала, всё предусмотрела, – шепнула на ухо Моте Василиса.
–Да, не нам чета. И повернула-то как, будто мы все виноватые, всё просчитала, – откликнулась та. – Одним словом, бухгалтер, а не девка. Ишь как «дебит» с «кредитом» свела. Всё – по уму: взрослые мужики наперечёт – их у их баб не отшибёшь. А молодежь? Молодым молодые нужны, как подрастут – не наши они с тобой, Василисушка!
Мотя помолчала с минутку, глядя на Лизку, взявшуюся за постирушку слепого, затем продолжила:
–А тут свой, гляди, молодой. Хоть слепой да сноровистый в мужском деле. И теперь уже – пришпиленный. Прости меня, Господи, за глаза мои завидущие. А нам, дорогая моя подруженька, что ещё остаётся в этом захолустье – ни театра, ни цирка, ни концерта, и ни мужика добротного! Ни бабьей весны и ни бабьего лета! В общем – ни черта тебе тут, только одно – работа да огород. Слава Богу, здоровьем Господь нас с тобой не обидел. Факт?!
–Но и в огороде есть своя прелесть, – ответила ей Василиса. И тут же на её глаза набежала слеза: «Где ж он, и как он там в этой безвести, мой соколик? Хоть весточку каку прислали оттуда, где сгинул он – родимый».
А Мотя повела своими богатырскими плечами, засмеялась и гаркнула:
–Всё! Шабаш, бабы!
На том и покончили они все свои суды-пересуды.
В тот вечер в посёлке не всё было тихо. То там, то здесь – и посреди его, и на окраинах звонкие женские голоса, в лёгком, слыхать, подпитии, песенно оплакивали свою нелёгкую бабью долю.
А через две недели здесь же, в посёлке, вовсю гуляла первая свадьба, послевоенная. И невеста была счастливая – в легком, словно воздушном, кипельно белом платье и фате – весёлая и счастливая, и жених – смущенный от внимания и заботы – в строгом чёрном костюме с белой розочкой в петлице, и в очках – тёмных, непроницаемых для любопытных глаз. И сама свадьба гуляла широко и привольно – с песнями, плясками, танцами и хороводами, и с обязательной дракой с пришлыми гостями из соседних деревень – такова традиция. И большой радостью – одной на всех: всё-таки это была первая свадьба после Великой Победы.
Такой виделась эта свадьба моему собеседнику, но не мне. А поскольку он, как говорит, сам там был, и мёд-вино пил, и по усам текло, и в рот всё попадало, то можно было в случившееся и поверить. Но, увы! Откуда было взяться ей, такой свадьбе, на Богом забытом разъезде в разорённой полунищей послевоенной стране, в которой только что отменили продуктовые карточки. А коль уж и встретились два одиночества, чего не бывает, думалось мне, по журналистской привычке додумывать, в след за рассказом собеседника, внезапно возникший сюжет, то, скорее всего, собралась вся бригада на вечерней зорьке под раскидистой берёзой за сбитым из струганных досок столом, накрытым, по-деревенски, чем Бог послал, и загуляла. Выпили самогону за здравие молодых. Заставили их не раз поцеловаться, каждый раз поднимая стаканы, под крики: «Горько!». Закусили солёным огурцом с капустой, селёдочкой, да грибочками, и картошкой, куда уж тут без неё, да ещё некими аппетитны-ми разностями – вкуснятинками, принесёнными в подарок молодожёнам Анной, той самой Анной, что так рьяно осуждала Лизавету за показное беспутство. Повеселились, и потосковали песенно, о своей горемычной судьбе — судьбинушке, сплясали, потанцевали, под патефон, друг с дружкой – по-городскому, выпили – на дорожку, потом – стременную и закурганную, и разошлись.
Историю эту, мягко говоря, в немалой степени курьёзную, скорее можно назвать, небылью – так, для трёпа, мне рассказал за кружкой пива Петрович – колченогий и рябой станционный сторож.
Разговорились мы с ним поздно вечером на привокзальной площади активно развивающегося посёлка, куда я прибыл «из области» по заданию молодёжной газеты, и коротал с ним время от нечего делать. Здесь он – Петрович, помимо своих прямых обязанностей, ещё и присматривал, в ночную смену, «по совместительству», за десятком разного рода ларьков, в том числе и продуктовых. За то и получал, в качестве бонусов, «мзду» – натурой, что в переводе с его языка значило – продуктами. И таким образом добавлял он к своему жалованью то пару кружек пива, то пирожки с мясом, а то, если повезёт, бутерброды со сливочным маслом, голландским сыром, колбасой или же ветчиной – редким по тем временам лакомством величиной в детскую ладошку.
В общем, был он здесь, на станционном пяточке, заметной и, вполне уважаемой фигурой.
Вначале Петрович сказался мне инвалидом войны. Но уже потом, захмелев, когда я добавил к его баллончику пива ещё и бутылочку красного винца, оговорился дважды, и мне, с его слов, стало ясно, что колченогость его не от вражеской пули или снаряда. А от того, что он ещё в детстве неудачно спрыгнул по ходу товарняка с грузовой платформы, с которой, сбрасывая, он подворовывал уголёк, чтобы отапливать свой с матерью ветхий домишко, прозванный «куркулями» – то бишь, более удачливыми соседями, халабудой.
Честно говоря, он мне чем-то нравился, этот то ли старичок, то ли постоянно кашляющий от махорки болезненный мужичок. А нравился он, прежде всего, своей беззлобной осведомлённостью о быте и нравах местного общества и оригинальностью даваемых оценок: ни дать – ни взять, что ни есть, настоящий доморощенный философ, каких, в прочем, немало в сельских глубинках. Что и было на руку мне – заезжему журналисту, которому поручено было написать пару очерков из жизни этого, в общем-то, быстро растущего, повторяю, и перспективного, промышленного уже посёлка.
–Всё ты врёшь, – сказал я, выслушав его байку о будто бы давнем происшествии в женской бане, – больно уж похоже на скверный анекдот. Да ещё в твоём искромётном изложении.
–Может, вру, а, может, и нет. Тебе решать, – сердито сплюнул от недоверия он. – Много ты понимаешь в нашей жизни?! Ты походи, раз приехал, посмотри, пощупай. Тут вся наша жисть – сплошь один анекдот. Эх-х-х, ма! А то сразу – врёшь!
-Тебе-то откуда знать про то, что было в бане? Да ещё так красочно?!
–Одна сорока моей матери на хвосте принесла, а я, на печи, в закутке, лежал, да подслушивал. Других развлечений у нас здесь не было, да и нет. Не то, что у вас – в городе.
–Ну, ты даёшь, Петрович. И что, всё помнишь?
–А как иначе? А.
Махнул рукой, и больше со мной ни слова. Обиделся.
Выпили мы ещё по кружке пива и по полстаканчика винца. Помолчали каждый о своём. На том и расстались.
Адрес, который мне дали в областном правлении творческого Союза накануне отъезда в эту командировку, оказался верным, так что его обитателей я нашёл быстро. И, давая его мне, председатель правления Николай Олешнев – он и художник, и поэт, и ещё как человек, прошедший все тернии военных лет, строго предупредил:
–Смотри, будь внимателен к своим словам, когда будешь брать интервью у Анд-рея Владимировича. Вследствие контузии во время войны он плохо видит, но зато – как уникален! И какая революционная манера исполнения работ, что диву даёшься: откуда она? И как делается?! Я познакомился с его триптихом «Огонь и розы» на выставке в Москве – это резьба по дереву, и, под впечатлением увиденного, написал балладу по его сюжету, под тем же названием. Передашь ему. Всё собираюсь навестить, да как-то некогда.
Сказал и сунул в руки мне несколько листков бумаги с плотно напечатанными, через один интервал, стихотворными строчками. А затем, подумав немного, присовокупил к ним, поверх текста баллады, рукописное посвящение «уникальному творцу» из малоизвестной глубинки. Так что теперь успех моему визиту был обеспечен.
Встреча с автором триптиха «Огонь и розы», о котором я и сам был наслышан немало, мною была отнесена на конец командировки, чтобы уже никакие заботы не помешали нашей, как мне казалось, задушевной и тоже время плодотворной беседе.
Управившись со всеми своими текущими делами, я, наконец, постучался в калит-ку Соколовых. Встретила меня зрелая женщина лет сорока – ухоженная, уверенная в себе и весьма привлекательная: светловолосая, голубоглазая, подвижная телом – плотно сбитая, и абсолютно без какого там даже намёка на излишнюю полноту. Оглядевшись, я сразу же заметил, что всё вокруг было также ухожено, как и она сама; заметил и привычную чистоту, а не к моему приходу – поскольку меня здесь совсем не ждали.
Не успел я, и глазом моргнуть, как рядом с хозяйкой оказались три любопытные мальчишеские мордашки – мал-мала меньше.
Представившись, я объяснил ей о цели своего визита, она, в ответ, назвалась Елизаветой Васильевной. А затем посторонилась, и, попуская меня вглубь двора, крикнула:
–Андрюша, это к тебе! Из области.
И приказала старшему из сыновей:
–Проводи, гостя, к отцу. И сразу же ко мне. Амором!
Завернув, вместе с детворой, за угол дома, я увидел в летней беседке, увитой хмелем, среднего возраста мужчину, лет, этак, сорока – в белой полотняной рубашке, нараспашку, в таких же холстяных брюках и, в босоножках на босу ногу, смуглого лицом, третью часть которого покрывали огромные затемнённые очки. Так что мне труд-но было составить внешнее представление о нём, разве что сквозь всё его одеяние явно виделось, что он сухопар, жилист и крепок телом, и хорошо ухожен.
Беседу он начал первым, протянув мне руку для пожатия, и уставив свой взгляд, под непроницаемыми стёклами очков, в одну точку не на моём лице, а чуть ниже подбородка, чем и ввёл меня в замешательство. И после этого, в прочем – недолгого, непредвиденного мною смущения, я, вдруг, понял: Олешнев, мягко говоря, утаил от меня меня главное: мой визави не просто плохо видел, он был слеп, а я, оказавшись в дурацком положении, не был готов к разговору с ним. И потому между нами повисла невольная пауза.
–Я знаком с вами, – сказал он, прерывая её, – знаком по вашим статьям, естественно. Мне жена читала их. Вы журналист-аналитик, и лирик – одновременно, в общем – романтик. Удивительно редкое сочетание по нынешним временам.
Он явно стремился убрать возникшую неловкость. А я не знал как себя вести, хотя не скрою: мне было приятно мнение его мнение о себе. Но уж больно смущал меня, не видимый мною, его взгляд.
–Так что же вы от меня хотите, сударь? – спросил он более сухо, чем прежде, видимо, приняв меня за посланца Союза художников, которому поручено удостовериться в истинно творческих возможностях его, Андрея Соколова, перед вступлением в эту престижную творческую организацию, дававшую её членам немалые льготы. – Я понимаю, вы хотите увидеть мою новую работу? – сухо продолжил он. И я, наконец, пришёл в себя.
Мы без обиняков объяснились: кто есть кто, и зачем я здесь.
Он смягчился, лишь, когда я передал ему Олешнев подарок, перед тем зачитав, и саму балладу, и дарственную надпись на ней. И нам обоим сразу стало легче в общении. Но моё смущение, если и ослабло, то, всё же, до конца не проходило. «Он живёт в ином, своём, мире, чем я, у него другое видение, мне недоступное, о человеческих отношениях, так же как и их понимание, – думал я. И мне никогда в них не разобраться»
Каким-то образом, уловив мою неловкость, он сказал:
–Да бросьте вы стесняться. Сейчас выпьем за знакомство и обо всём поговорим. Вы не первый, кто смущается от моего взгляда.
–Лизонька,– позвал он жену, – принеси-ка нам что-нибудь для разговора.
Я понимал его: он стремился поскорее убрать возникшую неловкость, так хорошо знакомую ему при беседе с незнакомым человеком. И лучше всего это сделать, по рус-ской традиции, за бутылкой доброго вина. И ему удалось устранить возникшую между нами преграду. А я, в свою очередь, дал себе зарок не задавать ему никаких неудобных вопросов, кроме одного:
–Как же это вам удаётся?
–Что? Вслепую? – улыбнулся он, – Да, на ощупь! У меня теперь всё на ощупь.
–Не понимаю.
Я ждал от него каких-то там приспособлений, или трафаретов. Ну, в общем, Бог знает что?!
Он потянулся и обнял меня.
–Ну, что же, смотри. Ты ведь за этим и приехал. Или нет?
Андрей Владимирович ловко опустил руки под стол, вынул оттуда, видимо, с полки, вначале резцы и разложил их на столешнице, а затем достал и само изделие – новую свою работу.
И только теперь я осознал, что мой нежданный визит застал его за работой. А он, размяв кисти рук, начал священнодействовать, поправляя на почти уже готовом полотне деревянной гравюры мелкие детали, каждый раз приговаривая:
–Как я работаю? Да, вот так! Вот так! Вот так!
Я был почти полностью подавлен: настолько завораживающим было зрелище.
Он весь напрягся, уставившись мысленным взглядом сквозь непроницаемые очки на доску. Пальцы рук его, словно став зрячими, заскользили по полотну, находя, безошибочно, и крупные и мелкие детали, как бы разглядывали их и, соизмеряя расстояния и размеры, а так же и на то, что и где нужно поправить.
Он давал волю резцу не торопясь, время от времени, постукивая по нему деревянным молоточком, а то и просто, нажимая на торец своего инструмента ладошкой – то сильно, а то и слабее, ну, и, наконец, совсем слабо.
–Откуда это у вас?! – воскликнул я изумлённо.
–С детства, – ответил он, приостановив работу, – наследственное всё это. Ты бы видел, какие чудеса творили с красным деревом мои отец и дед, и какую чудную мебель, резную, с разными там финтифлюшками, как они говорили, изготовляли, то бы не так ещё удивился. Вот уж мастера были – так мастера! На всю Россию. Куда там рококо до них! И меня – мальца, к искусству своему приспособили. Только я всё больше тянулся душой к архитектуре да заглядывался на скульптуры. Но, как видишь, их наука не пропала даром. Пригодилась – в моём случае. Ну, что?! Убедился?
Сказал и снова застучал молоточком.
Я заговорил о войне.
–Давай не будем. Не люблю этой темы, – ответил он.
–Почему? – вновь изумился я.
–Да потому нет ничего в ней хорошего. Ни для ума, ни для разума, ни для подражания. Одно душегубство, да и только! Война, она ведь от Лукавого, а не от Бога.
–Но ведь война – основа ваших работ?
–Это совсем другое. Да, война лишила меня будущего. Но не она оставила мне жизнь. И не она подарила мне надежду. И не она вложила в меня талант, и творит за меня, делая из слепого зрячего, если дело касается задуманного. Я, когда работаю, то словно, исповедуюсь за себя и за тех, кому повезло меньше, чем мне, там – на поле боя. А исповедь – дело сугубо личное. И, заодно, я словно причащаюсь. Подумай только: всего лишь два миномётных снаряда – один спереди, другой за спиною, рванув одновременно, полностью изменили моё бытиё. Так кто же мне оставил жизнь? Не война же?! И для чего? Не знаешь? Вот и я не знаю. Только бесконечно ему благодарен я за это.
Он поставил доску на самое освещённое место веранды, да так, что тени от резьбы, усиливая впечатление, делали задуманный сюжет рельефнее.
–Ну, что? – спросил он.
От избытка чувств у меня комок подкатил к горлу, и слеза накатила в глаза.
–Фантастика! – только и промолвил я.
Передо мной на деревянном полотне, выструганном то ли из липы, то ли ивы, осины или же ольхи – точно не знаю, не спрашивал, – предстала по-над ковыльной степью дорога, по которой шёл солдат с котомкой за плечами, опирающийся на самодельную клюку, вырезанную, по-видимому, из найденной по пути сучковатой ветви. По ту стороны дороги – скорбные лица вдов, одних вдов, а далеко впереди, на взгорье, молодая женщина, вознёсшая своё запрокинутое лицо к небу, и, руки, в сгибе, просящие о милосердии.
–Ну, вот и всё, – сказал он. – Не думал, как назвать, но, по-моему, всё же, стоит так: «По дороге домой».
–Абсолютно в точку! – заметил я в изумлении.
Всё время, что я общался с этим необыкновенным художником, три пары детских глазёнок, из-за кустов жимолости и ирги, с любопытством разглядывали меня, – этакого диковинного городского гостя да ещё – журналиста, который пишет про кого хочет и про что захочет в газеты и толстущие журналы. Разглядывали пока мать, запри-метив своих озорников, не загнала их в дом, дав каждому конкретные задания. Двое старших безропотно подчинились, но только не младший:
–Ну, ма-а-а, – канючил он, – разреши-и-и-и, интересно же.
–Нечего отцу мешать. Видишь, он занят! – прикрикнула она на него.
А затем, увидев, что муж завершил работу, стала накрывать стол к обеду. И тут нужно сказать, она постаралась на славу:
–Вот! Фирменный коньячок. Татьянин, – уточнила она, поставив на стол напиток, цвета спелого граната, в плотно закупоренном замысловатом резного стекла графине. – Двойной очистки, на лесных травах да ягодах. Трехлетней выдержки. Лечебный! И голова не болит, и давление не скачет. Ну, и вот всё то, что есть в огороде.
–А это нарезь от окорока. Подарок Моти, – продолжила она, делая вид, что ревнует. – Любит она тебя, Андрюша, эта твоя «Кувалдочка», как, впрочем, и все наши бабы. Ох! Смотри мне, не сподобила бы она, мово милого, к себе под бочище. Глядишь – стибрят.
И в этом «мово милого» едва-едва, но, всё же, чувствовалась не так уж и далеко затаённая и, отнюдь, не показная нежность. Больше того, там не было ни на йоту лжи. Но я никак не мог понять, что их связало – таких, внешне, двух разных людей, и две неоднородные, по сути, судьбы, соединённые провидением в одну единственную. И как не старался я самого себя поставить на место то одного, то другого — ничего не получалось. Сплошной туман, и ничего другого не вырисовывалось.
–Стибрят, факт, – повторила она.
–Да хватит тебе, – беззлобно отмахнулся он от её шутки. – Можешь не волноваться. Не сподобит. И не стибрит. – Подыграл ей супруг.
Елизавета Васильевна, балагуря, явно старалась произвести на меня впечатление – ради своего мужа, естественно. Я снисходительно дивился, по началу, этой показной перебранке, которую можно было принимать и не принимать – за правду, но, услышав знакомые имена, призадумался. И мне подумалось, что с ней ему не грозит ни новая беда, ни одинокая старость, ни безысходная тоска.
А Андрей Владимирович, сидел и улыбался, явно довольный и моим одобрением, и жёнушкиным хлебосольством, да ещё и этой их перебранкой, не имеющей общего с действительностью, иными словами – показной ревностностью, и последовавшим крепким объятием.
Для него, Андрея Соколова, который, как я уже говорил, жил в совсем другом мире, можно сказать – можно сказать, на половину виртуальном, сегодняшний день был очередным Праздником Победы, которых не так уж и много было в его жизни. Не только потому, что он удачно завершил свою работу, а оттого, что он сделал это – не смотря ни на что!
День клонился к вечеру. Много о чём мы беседовали, и не мешало ещё бы поговорить, но пора было мне собираться в дорогу – командировка и так непозволительно затягивалась. Так что все несостоявшиеся разговоры было решено оставить на потом.
На прощание я попросил разрешение сфотографировать некоторые его работы. Что и сделал. Но сам он позировать перед камерой категорически отказался: дескать, нечего людям настроение портить.
У калитки, прощаясь с Елизаветой Васильевной, я, как бы невзначай, спросил её:
–Да, совсем забыл: а как вы познакомились?
–Ну, милый, ты совсем много что хочешь знать! – Загадочно улыбнулась она. – Это уж совсем другая история. Не про тебя. Это личное. Как, там, у поэта: преданье старины глубокой – дела давно минувших лет. Заезжайте. Рады будем.
На том и расстались.
«Как же не про меня?! – подумалось мне. – И про меня тоже».
По дороге на вокзал, на площади, я повстречал Петровича. И, попивая с ним пивко, под водочку – в ожидании поезда, как бы, между прочим, спросил, чтобы упорядочить свои впечатления, хотя и так мне всё было ясно:
– Скажи, Петрович, а Андрей Соколов – не тот ли солдатик, из твоей байки, что побывал в баньке в женский помывочный день?
Тот даже переменился в лице:
–Может тот, а, может, не тот. Кто их слепых разберёт?
И вдруг взбеленился:
–Ходят тут всякие – всё высматривают, всё выспрашивают, да вынюхивают — на честных людей напраслину возводят! Глядишь, и ославят на всю Россию! Шелкопёры, писаки – сранные! А ну-ка, подь отсель, а то палкой счас, – размахнулся он, – перешибу.
Сказал и потряс своей клюкой перед моим носом. Затем плюнул мне под ноги, забрал свою кружку с недопитым пивом, и отковылял, неподалёку, к свалке из ящиков, чтобы продолжить своё пиршество.
–Ну, извини, ляпнул, не подумав. Ты-то как живёшь, всё о других, да о других байки сказываешь? А о себе что ж? – спросил я, примирительно поднося ему новую кружку пива. – Женат ли?
–Да кто ж пойдёт за меня такого?
–Да мало ли кто?
–Нет уж, моё дело табак! Мне и так неплохо. Пробиваюсь, то на свои, то на подножные. Как с хлебом, так и с бабами. Ну, бывай здоров, заскакивай, ежели что надо – подскажу.
Захмелев, подобрел он:
–А про слепого того забудь. Враньё это всё. Наговорил я, Бог знает что. Нехорошо это.
«Счас, как же забуду, – подражая местному говору, подумалось мне, – раз тут такие страсти в вашем бабьем царстве разгорались, и разгораются, по-видимому, и сейчас!»
Стоял душный вечер, с запада набегали чёрные тучи, изредка полыхали зарницы. И вслед за ними слышались приглушённые расстоянием раскаты грома.
–Гроза идёт, – промолвил Петрович. – Серьёзная. Шустро набегает. Так что держись – как бы огороды не смыло – сверху.
Мы посмотрели в ту сторону, что на взгорье – за танцплощадкой. Только что выстроенные добротные бревенчатые избы уже укутывались серой и влажной мглой. И вдруг оттуда, с того же взгорья, разорвало тишину девичье многоголосье:
-Средь дремучих лесов затерялося небогатое наше село.
Горе горькое по свету шлялося,
И ко мне невзначай забрело…
– Верка с подружками из клуба возвращается, – узнал певуний Петрович.
И тут же, где-то рядом, откликнулась другая компания:
-Напилася я пьяна, не дойду я до дома…
И совсем неожиданно:
-Проводил ты меня до заветной калитки,
Заняла тебя мелкая дрожь.
Ты скажи, ты скажи мне:
Чё те надо, чё те надо.
Может дам, может нет — чё ты хошь?
И снова:
-На реченьке – речке,
На том бережку
Мыла Марусенька белые ножки…
–А это Мотина дочка. Скоро про «шумел камыш» начнётся…
–То-то ты всё знаешь, Петрович?
–Такая должность. Сколько лет живу – ничего нового, разве что на танцплощадке что-нибудь – ну, там «рио риту» услышишь, или ещё чего. А так: любят у нас тут бабы пострадать. И по поводу и без оного.
–Ой, ли! В том ли только здесь дело?
– А от чего ещё?
Петрович внимательно посмотрел на меня:
–Сболтнул я тебе о слепом, сдуру, а ты уж язык навострил.
И погрозил корявым пальцем:
–Смотри, ты слово дал! В общем, прощевай. И не поминай лихом.
Я промолчал, хотя никакого слова, ни по какому поводу, ему не давал.
На том и расстались.
Придя в редакцию, я сдал на первую полосу – в праздничный номер обширный фоторепортаж о творчестве Андрея Соколова, присовокупив к нему Олешневу балладу «Огонь и розы». А через неделю – и очерк о молодой трактористке из той же глубинки, который начинался словами:
«Валька любит вставать с петухами, когда только ещё просыпается солнце, и степь, убаюканная обильными росами, чутко прислушивается к шорохам».
И больше ни слова, ни о Петровиче, ни о его бойках.
Но ещё долго, долго, долго я вспоминал эту свою поездку в ту далёкую таёжную глубинку, в которой, к сожалению, так и не побывал больше, и потому героев моих тамошних встреч больше не увидел. И всё думал, что же это за штука такая – это простое женское счастье, о котором я там услышал впервые, в пересказе Петровича, из Лизкиных уст?
Но, как не размышлял, так ничего и не понял. И не понимаю о нём ничего до сих пор.
Впрочем, какие наши годы. Может, ещё и повезёт – пойму.
Источник статьи: http://proza.ru/2017/09/22/1288