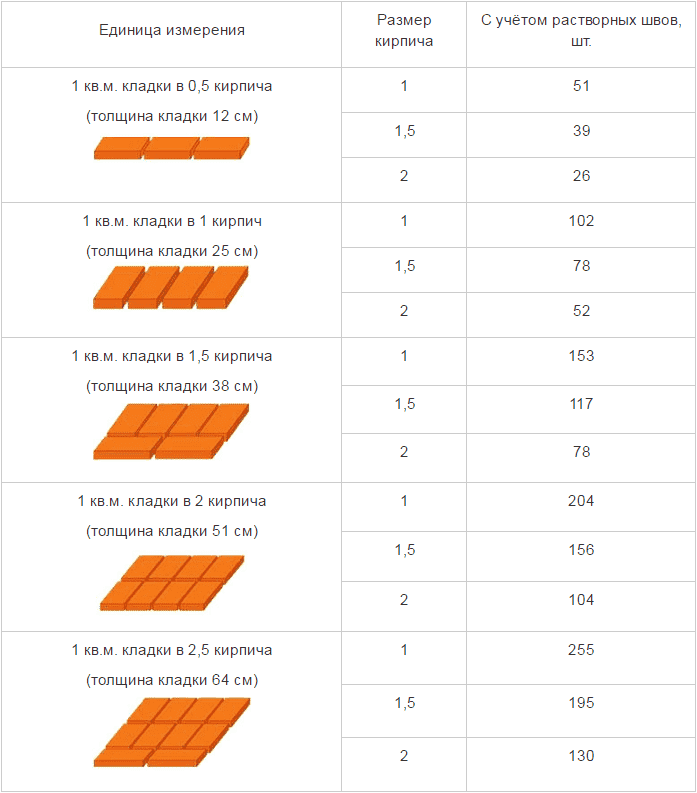Три брата отрывки из поэмы
Уважаемые читатели! К большому моему сожалению я не являюсь автором этого произедения. Стиль написания очень похож на стиль А. Твардовского, но думаю, что авторство этого произведения ему прмиписывать нельзя. Здесь, на стихах.ру я нашёл схожее произедение, написанное Андреем Владимировичем Пронининым — http://www.stihi.ru/2008/03/14/2719 и называется «Современная авантюристическая эротическо-поэтическо-политическая трагикомедия» «Братья Сукашвили». (с).
Всё было бы хорошо, если бы автор честно указал, что это пародия или в крайнем случае фанфик. Однако, некоторые строки и порой даже четверостишья полностью скопированы. Лично мне довелось прочесть поэму «ТРИ БРАТА» ещё в 70-80-х годах прошлого столетия. То, что мне довелось читать не сходно с тем, что написано А.В. Прониным, хотя (повторюсь!) многие строчки и даже некоторые четверостишья полностью оттуда заимствованы. Линия сюжета также схожа. Но вам решать, уважаемые читатели. Приятного чтения. Те строчки, которые вызывают у меня сомнения в правильности их написания я буду брать в кавычки «».
p/s: Дорогие друзья и читатели, если у кого есть полный текст поэмы «ТРИ БРАТА», прошу прислать мне на почту. Заранее всем благодарен.
«К нам дошли через сказанья
Дела древности былой» —
Русский люд на поле брани
Выходил на смертный бой.
За Отчизну дрался смело,
Не сдавал врагу ни в чём
И разил его умело
Крепкой бранью и мечом.
Так от слова «брань», «бранина»,
Далеко в седую рань,
Зародилась матерщина
С тем же самым словом «брань».
Правда, брань была когда-то
Срамным словом языка —
Нынче человек без мата,
Что «легавый» без свистка.
Скажем, ты пришёл с работы,-
Вмазать бы пол-пузырька.
Ты к жене — жена: «-Да, что ты?!»
Как тут быть без матерка?
А война? Война без мата,
Что винтовка без штыка.
Что полковник без солдата,
Что солдат без котелка.
В мате русская натура,
С ним дано нам жизнь прожить.
Мат хоть вовсе не цензура,
Но им нужно дорожить.
Мата нечего стеснятся.
Мат затем и матом стал,
Чтобы матом объясняться —
Словом чистым, как кристалл!
А теперь на эту тему
Рассказать хочу вам я,
Современную поэму
«Громкопёрдовы братья».
В старом доме, на Арбате,
Возле станции метро
Жили три бродяги брата —
Ванька,Гришка и Петро.
Ванька лазил по карманам —
В этом деле был артист.
Гришка жил за счёт обмана —
Был отличный аферист.
Петька был универсалом,-
Кража то или шантаж,
Лишь бы пахло капиталом,-
Петька шёл на»абордаж».
Целый день в собачьей гонке,
В мыле с пяток до яиц,
На Таганке, на Волхонке
Замечали этих лиц.
Никогда не унывая,
В поте праведном лица,
Хлеб насущный добывали
Три столичных молодца.
Но однажды в кассах «бана»,
(Знай! Вокзал зовётся «бан»!),
Засекли менты Ивана —
За карман влетел Иван.
Притащили в уголовку
(Деньги скинуть не дают!)
Узнаёт Иван Петровку —
Ваньку тоже узнают.
Встретил МУР его, как брата:
— Здравствуй, Ваня! Не стыдись!
Все мы жулики-ребята,-
Ну, Иван, давай, колись!
Видно так уж есть на свете,-
Не решаясь на обман,
Наш Иван сознался сразу —
Раскололся за карман.
Загудел весь МУР, как улей.
(Ванька думает:- Кранты!)
А кругом-то пулей, пулей
Так и носятся менты.
Коридоров в МУРе уйма,
Кабинетов много в них.
Не попал ли Ванька с дуру
В «академию блатных»?
В «воронке» старее клячи
Привезли его в тюрьму.
Ни п. ы, ни передачи
Здесь не ломиться ему.
Душно в камере, как в бане,-
Сколько жить придётся тут?
Мысли плавают в тумане:
— Что там братья? Как живут?
Между тем Петро и Гришка
Дело сделали. Кутят.
Пораскинули умишком —
Брата вытащить хотят.
Ваньке в суд нужна защита.
Подвернулся жид юрист.
Морда, словно у бандита —
Чистый, курва, аферист.
Предлагает братьям сделку
(Брешет, падла, без стыда!):
— За полтыщи и похмелку
Ваньку вытащу с суда.
Достают братья кубышку,
Поглядели, что за бл*дь?
Говорит Петруха Гришке:
— Мало денег. Где же взять?
Кражи, взломы и разбои ,
Много риска — мал доход.
Надо выдумать такое,
Чтобы был нормальный ход.
Думу думали до ночи
Где полтысячи достать,
Чтоб юристу-аферисту
За Ивана «лапу» дать.
Источник статьи: http://stihi.ru/2014/03/12/10429
ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Девочка из города
НАСТРОЙКИ.
СОДЕРЖАНИЕ.
СОДЕРЖАНИЕ
Любовь Федоровна Воронкова
Девочка из города
Как девочка в синем капоре появилась в селе Нечаеве
Фронт был далеко от села Нечаева. Нечаевские колхозники не слышали грохота орудий, не видели, как бьются в небе самолёты и как полыхает по ночам зарево пожаров там, где враг проходит по русской земле. Но оттуда, где был фронт, шли через Нечаево беженцы. Они тащили салазки с узелками, горбились под тяжестью сумок и мешков. Цепляясь за платье матерей, шли и вязли в снегу ребятишки. Останавливались, грелись по избам бездомные люди и шли дальше.
Однажды в сумерки, когда тень от старой берёзы протянулась до самой житницы, в избу к Шалихиным постучались.
Рыжеватая проворная девочка Таиска бросилась к боковому окну, уткнулась носом в проталину, и обе её косички весело задрались кверху.
– Две тётеньки! – закричала она. – Одна молодая, в шарфе! А другая совсем старушка, с палочкой! И ещё… глядите – девчонка!
Груша, старшая Таискина сестра, отложила чулок, который вязала, и тоже подошла к окну.
– И правда девчонка. В синем капоре…
– Так идите же откройте, – сказала мать. – Чего ждёте-то?
Груша толкнула Таиску:
– Ступай, что же ты! Всё старшие должны?
Таиска побежала открывать дверь. Люди вошли, и в избе запахло снегом и морозом.
Пока мать разговаривала с женщинами, пока спрашивала, откуда они, да куда идут, да где немцы и где фронт, Груша и Таиска разглядывали девочку.
– Гляди-ка, в ботиках!
– Гляди, в сумку свою как вцепилась, даже пальцы не разжимает. Чего у ней там?
– А ты сама спроси.
В это время явился с улицы Романок. Мороз надрал ему щёки. Красный, как помидор, он остановился против чужой девочки и вытаращил на неё глаза. Даже ноги обмести забыл.
А девочка в синем капоре неподвижно сидела на краешке лавки.
Правой рукой она прижимала к груди жёлтую сумочку, висевшую через плечо. Она молча глядела куда- то в стену и словно ничего не видела и не слышала.
Мать налила беженкам горячей похлёбки, отрезала по куску хлеба.
– Ох, да и горемыки же! – вздохнула она. – И самим нелегко, и ребёнок мается… Это дочка ваша?
– Нет, – ответила женщина, – чужая.
– На одной улице жили, – добавила старуха.
– Чужая? А где же родные-то твои, девочка?
Девочка мрачно поглядела на неё и ничего не ответила.
– У неё никого нет, – шепнула женщина, – вся семья погибла: отец – на фронте, а мать и братишка – здесь. Убиты…
Мать глядела на девочку и опомниться не могла.
Она глядела на ее лёгонькое пальто, которое, наверно, насквозь продувает ветер, на её рваные чулки, на тонкую шею, жалобно белеющую из-под синего капора…
Убиты. Все убиты! А девчонка жива. И одна-то она на целом свете!
Мать подошла к девочке.
– Как тебя зовут, дочка? – ласково спросила она.
– Валя, – безучастно ответила девочка.
– Валя… Валентина… – задумчиво повторила мать. – Валентинка…
Увидев, что женщины взялись за котомки, она остановила их:
– Оставайтесь-ка вы ночевать сегодня. На дворе уже поздно, да и позёмка пошла – ишь как заметает! А утречком отправитесь.
Женщины остались. Мать постелила усталым людям постели. Девочке она устроила постель на тёплой лежанке – пусть погреется хорошенько. Девочка разделась, сняла свой синий капор, ткнулась в подушку, и сон тотчас одолел её. Так что, когда вечером пришёл домой дед, его всегдашнее место на лежанке было занято, и в эту ночь ему пришлось улечься на сундуке.
Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.
Источник статьи: http://booksonline.com.ua/view.php?book=150861&page=7
Где же тут баня
Сколько стоит человек
(Повесть о пережитом)
Тебя нет со мной, но ты — в моем сердце
Мама! Дорогая моя старушка! Мой первый и последний, единственный и незаменимый друг… Тебя уж нет, но ты — во всем, что меня окружает: это кресло — старое, но удобное (я его купила, потому что ты любила все уютное); стол — легкий и низкий, чтобы ты могла без напряжения к себе его пододвигать; множество подушек — твоё zestre[1], чтобы тебе всегда было удобно; радио, проигрыватель, множество пластинок (и сколько ты их еще собиралась купить!), ведь ты так любила музыку! Ты жила ею! Она была тебе нужна, как воздух… Ведь недаром накануне смерти, когда тебе явно не хватало воздуха, ты просила поставить пластинку с «Иваном Сусаниным». Тебе не хватало сил подпевать любимым ариям, но ты продолжала дирижировать уже слабеющей рукой: «…Ты взойди, моя заря, последняя…»
А картины? Ведь это твоя «галерея» развешана повсюду, куда бы мог упасть твой взор! Все их я рисовала для тебя, думая о тебе… Признаться тебе? Ведь мне пришло в голову рисовать там, в Норильске, сразу после того как я оставила за собой тюрьму, где рисовать было запрещено… Даже если б на это нашлись время и силы, не говоря уж о бумаге и красках… Не было еще ни тюфяка, ни простыни, не было даже своего угла, но я уже мечтала нарисовать что-то красивое, напоминающее прошлое, — то прошлое, которое неразрывно было связано с тобой, моя родная!
Спасибо Мире Александровне! Поехав в отпуск, она прислала мне масляные краски, и первое, что я нарисовала, — «Дубки» Шишкина — было посвящено тебе, моя дорогая. Я рисовала… и в мыслях бродила с тобой по тем местам, которые изображала. И я разговаривала с тобой, хотя и считала тебя мертвой, но… где-то в глубине души жила надежда — тот слабый огонек надежды, без которого жизнь темна. Ведь есть же разница между абсолютной темнотой, окружающей слепого, и (пусть самым слабым) зрением, когда еле-еле видишь источник света! Такой слабый источник света теплился в моей душе, и, рисуя, я как бы чувствовала, что ты со мной.
Не потому ли ты так любила мои картины, моя дорогая? Ты будто повторяла мои слова: «…Когда тебя нет со мной, я смотрю на твои картины и как будто гуляю там с тобой! И мы разговариваем. И потому я их так люблю! Вот эту. И — эту. И — ту». Ты так хотела, чтобы я рисовала!
Вообще ты хотела, чтобы жизнь моя была полней, интересней. Помню, как ты, будучи уже больной, когда в душе моей было горе и смятение (видимой опасности еще не было, но… сердце — вещун, и ледяная рука страха сжимала мне горло), ты, каждый раз беря газету, смотрела программу кино и уговаривала меня: «Пойди, посмотри! В „Дружбе“ то-то, в „России“ то-то. Vas! J’aime tant quand tu vas au cinema![2] Я не хочу, чтобы ты из-за меня лишала себя развлечений!»
Как мне было тебе сказать, что мне не до развлечений? Что тоска и предчувствие цепко держат меня? Что мне хочется взять тебя на руки, прижать к сердцу и грудью своей заслонить тебя от надвигающегося неумолимого рока? Единственное, что я могла придумать, — это… рисовать. Я ухватилась за эту возможность и принялась за марины[3] Айвазовского…
Добрая моя старушка! Ты не поняла моей «хитрости»… Ты так обрадовалась! Ты сидела в кресле. Я тебе наладила портативный столик, чтобы ты могла раскладывать пасьянс, а сама уселась у твоих ног и разложила свои краски, кисти… — Ты смотрела на меня своими добрыми, влюбленными глазами и не переставала восторгаться: «Vraiment! Tu as du talent! Tu dois faire de la peinture! Absolument! Promets le moi!»[4]
Да, моя дорогая! Ты хотела, чтобы я тебе обещала, и твоя воля для меня свята. И еще об одном ты меня просила: записать, хотя бы в общих чертах, историю тех лет — ужасных, грустных лет моих «университетов».. Хотя кое в чем Данте меня опередил, описывая девять кругов ада.«…Ты иногда рассказываешь то отсюда кусочек, то оттуда… Я никак не разберусь! Напиши все подряд, и когда ты мне прочтешь, то я, может быть, пойму…»
Нет, дорогая моя! Ты всей этой грустной истории не узнала… И не оттого, что ты там, «идеже несть воздыхания», а оттого, что вся моя жизнь в те годы была цепью таких безобразных и нелепых событий, которые не умещаются в разуме нормального человека… и не доходят до чувств того, кто этого не пережил…
Не о том, что я абсолютно одинока, что никому во всем свете нет дела до меня: до того, что меня радует, что огорчает, грустно ли мне или весело. И не оттого, что мне не о ком заботиться, некого приголубить с полным сознанием того, что моя любовь нужна кому-то, как майский дождь — растению. Нет! Я просто не могу смириться с мыслью, что после двадцати лет разлуки, прожитых вдали от меня, не имея никакой опоры, кроме себя самой, своих сил, своего ума и доброй воли, именно теперь, когда моя храбрая старушка с молодой душой смогла получить все, о чем она могла только мечтать: уютный домик, где все было устроено сообразно с ее вкусами, сад, который она сама считала «самым красивым из райских уголков», наконец, дочь, готовая радоваться ее радостью… И все это потерять, не успев как следует насладиться! Она так верила, что в моих объятиях она как бы застрахована от всякой беды! «Все, что ты делаешь, будет хорошо сделано! Я горжусь тобой! Ты — мое „все“! С тобой мне ничего не страшно…»
Не зря в последние минуты своей жизни она просила: «Не покидай меня („ne me quitte pas!“), не уходи никуда!» — и протягивала ко мне руки.
А я не сумела оправдать ее доверия… Смерть ее безжалостно обворовала…
И я плачу… Хоть не умею плакать: в горле будто железный комок: он меня душит, а облегчения нет…
Вот и получилось «вместо предисловия»!
Через головы местных акул
Прежде я никогда не плакала. Когда умер отец, которого я боготворила, мне было не до слез: надо было спасать маму, чуть было не умершую с горя. Спасать не только ее жизнь, но и рассудок, которого она чуть не лишилась — так велико было ее горе…
Кроме того, что греха таить, Румыния была страна средневековая, феодальная, и когда главою семьи оказалась девушка, то многие акулы ринулись в надежде поживиться. Папа — юрист-криминолог и «джентльмен до кончиков ногтей» — отнюдь не был образцовым хозяином-земледельцем. Все хозяйство — забота о земле, о работе — давно было моей обязанностью, и я всегда была рада и горда, что он мог спокойно читать в шезлонге в своем саду, который он так любил; рядом с ним — мама, у его ног — любимая собака, и кругом мирная картина: вековые дубы, лужайка, сад, виноградник… Я гордилась тем, что могу дать ему возможность отдыхать, а не биться как рыба об лед: нелегко было вести хозяйство, когда из ничего надо было создать что-то. Кто видел, с какими трудностями приходилось встречаться мне? Папа, как английский король, «царствовал, но не управлял»[5]. Зато он пользовался неограниченным кредитом у местных богачей — скупщиков зерна: денег он брал сколько хотел, а расплачивался, когда реализовывал урожай, то есть к весне.
Умер отец в самый разгар осенних полевых работ, и кредиторы предъявили к оплате векселя раньше, чем покойника в гроб положили. Но они просчитались: вместо того, чтобы подписать кабальные обязательства, я через головы местных акул заключила сделку с Государственным федеральным банком, обязавшись поставить для экспорта зерно самой высокой кондиции. Один Бог знает, сколько мне пришлось для этого потрудиться!
Источник статьи: http://www.litmir.me/br/?b=171053&p=107