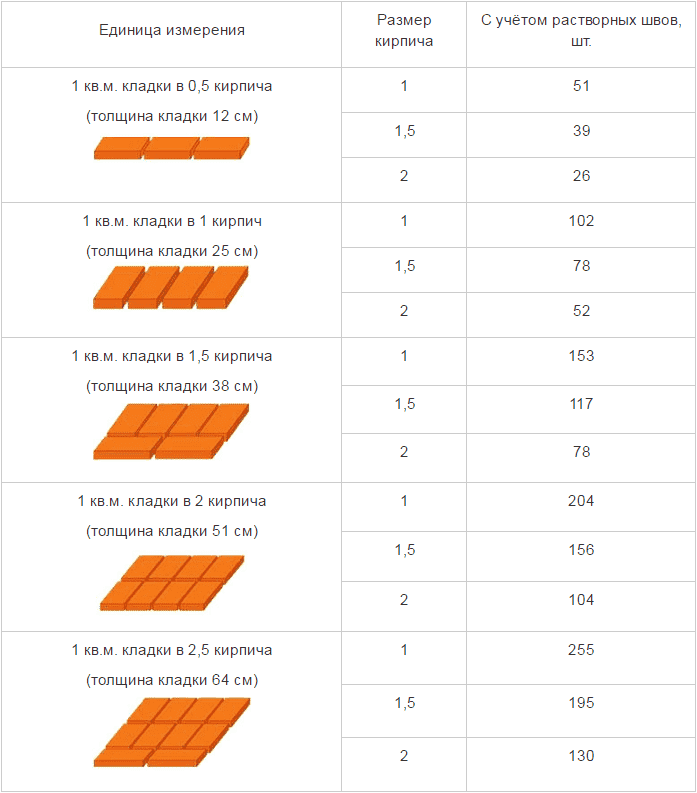Глава 2. А. Чехов?
Девочка я из себя была немудрящая, маленькая и черноглазая, за то самое меня и прозвали Галчонком.
С матерью вотчим жил хорошо, согласно, прижил с ней ребёнка, только этот ребёнок прожил недолго, каких-нибудь месяца два, а потом помер.
В то время я уж смышлёной была и начала матери пособлять. И корову, бывало, подою, и печку истоплю, и всё такое по домашности. Однако вотчим меня работой не неволил.
— Что, — говорит, — с неё взыскать, пускай растёт себе.
Пришло лето. Как-то купалась я в реке, а речка-то как раз позади наших гумен протекала. Купалась, купалась. Зачала раков ловить. Ущупаю норку, засуну туда руку, да и вытащу рака. Наловила их почти ведро целое. Смотрю: вотчим лошадь поить ведёт. Подвёл лошадь к воде, а сам на берегу присел. Смотрит на меня и кричит:
— Никак раков ловишь?
— Раков, раков.
— А много наловила?
— А вот, — говорю, — покажу сейчас. Выскочила я на берег и зачала раков из ведра высыпать. А вотчим хоть бы слово промолвил, ровно очумел. На раков-то и не взглянул даже, а только мне всё промеж ног смотрит. Уставился глазами, а сам красный сделался. Лошадь давным-давно напилась уже, а он всё глядит и глядит. Наконец, ровно проснулся, встал на ноги и засмеялся.
— И впрямь, — говорит, — ты Галчонок, у тебя и тело-то чёрное.
А сам обнял меня, поводил по спине рукой, погладил и повёл лошадь домой.
С той самой поры он ещё пуще ласкать меня зачал. Мимо, бывало, не пройдёшь, чтобы не пощупал меня. То, бывало, за плечо ущипнёт, то по голове погладит. При матери, бывало, редко ласкал, а уйдёт мать, ну и зачнёт, раз за пазуху залез, гладит рукой по голому телу, а сам шепчет:
— Никак сисеньки-то у тебя припухать начинают.
Где там припухать: грудь-то, словно лопата, плоская была, и только два сосочка, как две землянички, торчали. А другой раз посадил меня к себе на колени и под подол рукой залез. А я сижу и думаю: чего это он меня меж ног щупает? Смотрю на него, а он словно задыхается. Словно его лихоманка бьёт. Так весь ходуном и ходит.
— С тобой, — говорит, — того и гляди, набедокуришь.
А я только дивлюсь: про какую он беду говорит, а пуще всего чудно было, чего он у меня пальцем-то копает.
Прошёл месяц. Однажды как-то мать к родным собралась, а мы с вотчимом должны были дома остаться. Запряг он матери лошадь, соломки в телегу подбросил, чтобы спокойнее сидеть было и честь честью проводил со двора.
Я всё время на крылечке стояла, а проводивши мать, пошла в чулан и завалилась спать. Долго ли, коротко ли спала — не помню. Только слышу: тихонько кто-то толкает. Я открыла глаза. Смотрю — вотчим.
— Хочешь, — говорит, — в баню со мной?
— А баню-то истопил? — спрашиваю.
— Истопил, — говорит.
— Что же, — говорю, — пойдём, пожалуй. Я собрала бельишко, и мы пошли. А вотчим идёт и всё на меня глазами косится, словно как не верит, что я следом за ним иду.
Подошли мы к бане, он остановился и говорит:
— Ступай передом.
Я вошла, а следом и вотчим.
— Лезь, — говорит, — на полок, я там помою тебя. Залезли мы и сели рядом.
— Давай, — говорит, — сперва попотеем. А сам обнял меня и зачал по телу гладить. Гладил, гладил и опять промеж ног полез. Мне инда щекотно стало, засмеялась я и скорее ноги вместе стиснула. А он задрожал весь, и слышу , что он меня на спину гнёт. Положил на спину. лезет на меня и шепчет, чтобы я, значит, ноги раздвинула. Я раздвинула. а пот с него так градом и льёт.
— Лежи, — говорит, — смирно.
Я лежу и слышу, что он мне в сюку-то приставил что-то. Приставил да вдруг вскочил с меня, словно как испугался чего, сел на полок и свесил ногу.
— Нет, — говорит, — этак того и гляди в Сибирь угодишь!
Сидит так-то, промеж ног мне смотрит, а сам захлёбывается инда.
— Давай, — говорит, — по-иному.
Взял меня за руку, поднял, велел на ступеньку с полка спуститься и поставил меня супротив себя так, что его ноги промеж моих угодили.
— Мой, — говорит, — мне шишку. И шишку-то мне в руку суёт.
— Ты, — говорит, — мне помой, а я тебе.
Я взяла его шишку, а он, значит, пальцем мне сюку щекотать начал. Я стою, пошевеливаю рукой шишку-то и думаю, что-то странно мы моемся.
Сперва ничего, словно так и следует, а потом, маленько погодя, слышу, что по телу-то у меня словно дрожь пробежала. Сердце заныло как-то, в глазах помутилось, а промеж ног-то такой зуд пошёл, что инда упала вотчиму на плечо и, сказать стыдно, усс.лась вся.
А вотчим словно как обрадовался этому и всё мне в руку шишку тычет. Тыкал-тыкал, да как вытянется вдруг, как задрожит, и слышу я: из рук у меня что-то потекло.
Тут уж я не выдержала, упала на вотчима. А когда очнулась и говорю ему:
— А мы, должно быть, угорели с тобой. Он засмеялся.
— Есть, — говорит, — немного. Однако мы вымылись, как следует попарились и зачали одеваться. Выходя из бани, вотчим и говорит мне:
— Ты смотри, не сказывай, что мы с тобой в бане были, ни-ни. Скажешь — со света сживу, живую в землю закопаю! А смолчишь — любить буду, без калачика с базара не приду.
С той самой поры вотчим так полюбил меня, что редкий день гостинцами не дарил.
Источник статьи: http://proza.ru/2016/11/18/1678
Галчонок в бане с отчимом
Глава 4. А. Чехов?
Недели полторы я так-то упрямилась. Наконец изловил он меня на огороде. Подобрался так, что я не заметила, облапил и, не говоря ни слова, повалил на землю. Я вскочить хотела, но не тут-то было.
Задул он мне свою шишку и давай натягивать! Я было кричать, а голос-то словно у меня отнялся. Сердце заныло, в глазах помутилось, и помню я, что мне так хорошо стало, что я даже ноги развела и обвила руками шею вотчима.
Сделали мы так-то разик, отдохнули маленько, а потом в другой раз зачали. Тут уж я не ломалась. Сама легла на спину, сама заголила подол и даже сама вставила шишку.
Только недолго мы прожили так. Какие-нибудь месяца два-три, а потом такая беда стряслась, что инда вспомнить страшно. А во всём виноват был вотчим. Уж больно он расхрабрился. Словно забыл, что у него законная жена есть. Прежде, бывало, гостинцы тайком мне возил, а тут дошёл до того, что бояться перестал.
Я уж не знаю, что с нами было тогда. Наголодались, что ли, мы с ним или уж больно обрадовались, что мать уехала, только он до самой полуночи не слезал с меня. Сделает и лежит. Даже шишку из меня не вытаскивал. Так с засунутой шишкой и лежит. Лежу я под ним и хоть бы пошевелилась! Лежу себе и жду, когда шишка опять распухать начнёт. А как только почую, что она словно шевелиться начнёт, так сейчас прижмусь к нему. Прижмусь и готово. И опять за дело!
Вдруг ночью слышу: кто-то хлопает дверью. Я хотела было вскочить с кровати и вдруг вижу мать с лампой на пороге, а вотчим стоит возле неё в одной рубахе. И слова вымолвить не может. Я обомлела. Пальцем пошевелить не могу. А потом. что тут было! До сих пор трясёт меня, как вспомню, как ругала мать вотчима, а заодно и меня.
Глава 3. А. Чехов?
Однова как-то я на огороде поливала, день был жаркий, умаялась, таская воду. Так что после обеда забралась на сеновал, уткнулась в сено и уснула. Только чую спросонья, что по мне ветер гуляет. Открыла я глаза и вижу, что лежу заголённая и что вотчим лежит у меня промеж ног и языком сюку лижет.
Вдруг слышу, вотчим словно как задыхаться начал, заметался, засунул язык в сюку и притих.
На другой день праздник какой-то был. Мать в село к обедне поехала. А мы с вотчимом остались дома. Зачала я печку топить. Только я чувствую, что он глазами-то словно съесть собирается. Вот ведь диковинка-то какая, словно у меня на затылке глаза торчат.
Да он словно оглох. Повернул меня к себе лицом, прижал к печке и в руку шишку суёт. Стыдно мне стало. Так стыдно, что я даже отвернулась от него, а всё-таки шишку-то взяла и зачала её шевелить легонько. Полез он ко мне промеж ног. Лезет рукой-то, а ноги у меня словно сами собой раздвинулись.
Зачали мы баловаться.
Вот диковинка-то. С той поры мы эдак-то почитай каждый день баловаться начали. Да это что. Сговариваться зачали, где бы сойтись так, чтобы никто не видел. И сходились то на гумне, то на огороде. Я уж думала, что вотчим просто играет со мной, только не по-прежнему, а по-иному. Полюбилась я ему, думала я, ну вот он и играет. Я даже не знала ещё, как по-настоящему это делают. Однако немного погодя узнала. И вот как это было.
Тыкались-тыкались, а потом перестали.
Немного погодя смотрю, вотчим слез с матери, а мать вздохнула, опустила рубашку и повернулась на бок.
А вотчим по соседним гумнам ходить начал. Я осталась одна. Кругом всё затихло, словно как бы вымерло. На меня инда робость напала. Стою и думаю:
— Зачем это вотчим по гумнам ходит?
Думала, думала и смекнула, что это он смотреть пошёл, не остался ли кто на гумне.
Наконец слышу, что шаги-то ближе и ближе раздаются, а немного погодя и сам вотчим показался. Шагал он, не торопясь, прислушивался, а когда пришёл на своё гумно, остановился и зачал глазами-то меня искать. Я стою ни жива, ни мертва.
У меня инда глаза на лоб закатились. А он-то облапил мне шею и всё на меня налегает. Запустит шишку-то, прижмётся плотно-расплотно, а потом вытащит и опять запустит. Всю солому изъездили. Зачали у одного конца омёта, а закончили у другого. Словно бешеные сделались.
Он упрётся ногами-то в землю и так запустит, что инда с места сдвинет. Только соберусь подняться, а он опять опрокинет и опять задвинет. Крикнуть, было, хотела, а рот платком заткнут. Стиснула зубами платок этот и словно замерла.
Галчонок-гренадер
Была у нас в летной столовой официантка Галя. Хорошая девушка, спокойная и расторопная. И даже симпатичная, если не брать во внимание ее размеры. Росту у неё было – будь здоров, да и сложения крепкого. Звали ее все, как бы в пику ее росту, Галчонок. В те времена крупные девушки не в моде были и, может быть поэтому, была она холостячкой. Даже более-менее постоянного кавалера у нее не было.
Откуда она на Дальнем Востоке взялась – никто не знал. Правда злые языки утверждают, что на груди у нее татуировка была, надпись – «Не уверен – не раздевай!». А тогда сам факт татуировки, не то, что ныне, уже кое о чем говорил. И силы она, говорят, была необыкновенной, хотя никогда ее не проявляла.
Как-то вечером, в ее холостяцкую комнату забрели два хорошо поддатых прапорщика. Время было позднее, купить еще чего-нибудь они уже нигде не могли. Вот и забрели к одинокой девушке с целью добавить чуть-чуть. А Галчонок обрадовалась. Еще бы целых два мужичка расслабленных и без присмотра! Она тут же бутылочку на стол поставила и закуску из припасов летной столовой соорудила.
Выпили, поболтали, насколько язык позволял. Стала, Галчонок допытываться, кто с ней останется? Хоть гости поздние, и выпивши, были, что-то ни один из них готовности хозяйку ублажить не проявлял. Квартира у нее была в деревянном доме и удобства на улице располагались. Стали друзья уверять ее, что на секунду до ветра выйдут. Но что-то уж больно тщательно, для такого маленького дела одеваться стали.
У Галчонка смутные подозрения в голове закопошились. А когда они, проявив постыдную поспешность, к двери кинулись, она с криком: «Э! А кто меня будет…?» второго за рукав ухватила. Видно парень совсем не расположен был к любви. Так вырывался, что Галчонок ему рукав куртки оторвала. Так и осталась, бедная девушка с рукавом, а пьянчужка, значит, без рукава. Слабак!
Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/galchonok-v-bane-s-otchimom/
Глава 4. А. Чехов?
Раз как-то вотчим пришёл ко мне ночью, хотел было полежать со мной, так я его прогнала.
— Ступай, — говорю, — ступай от меня! Тот было ломаться зачал, а я вскочила с постели и вытолкала его вон из чулана.
— И не моги, — говорю, — ходить ко мне.
Недели полторы я так-то упрямилась. Наконец изловил он меня на огороде. Подобрался так, что я не заметила, облапил и, не говоря ни слова, повалил на землю. Я вскочить хотела, но не тут-то было.
Задул он мне свою шишку и давай натягивать! Я было кричать, а голос-то словно у меня отнялся. Сердце заныло, в глазах помутилось, и помню я, что мне так хорошо стало, что я даже ноги развела и обвила руками шею вотчима.
Сделали мы так-то разик, отдохнули маленько, а потом в другой раз зачали. Тут уж я не ломалась. Сама легла на спину, сама заголила подол и даже сама вставила шишку.
С той поры вотчим, почитай, каждую ночь ко мне приходил, и я так полюбила его, что, бывало, жду не дождусь. Полюбил и он меня страсть как! Зачнёт, бывало, пихать, а сам шепчет:
— Такой, — говорит, — у меня аппетит на тебя, что умереть на тебе могу.
Только недолго мы прожили так. Какие-нибудь месяца два-три, а потом такая беда стряслась, что инда вспомнить страшно. А во всём виноват был вотчим. Уж больно он расхрабрился. Словно забыл, что у него законная жена есть. Прежде, бывало, гостинцы тайком мне возил, а тут дошёл до того, что бояться перестал.
Однова привёз ситцу сразу на два сарафана, а другой раз платок шёлковый, потом серёжки, бусы. Да так при матери и отдавал.
— На, — говорит, — Галчонок, носи на доброе здоровье!
Сперва-то мать ничего, а потом словно серчать стала.
Вдруг мать на ярмарку отправилась, и мы словно как ожили. До ярмарки было далеко — вёрст сорок и обернуться в один день никак нельзя было. Мать поехала и говорит вотчиму:
— Я переночую там.
— Знамо, — говорит, — переночуй.
Мать уехала, а мы с вотчимом остались одни.
— Ну, — говорит, — Галчонок, теперь ночь наша! Сходил он в лавку, принёс сластей разных, водочки, и мы зачали пировать. Я водки-то не пила, а он выпил порядком. Вечером напились мы чая, поужинали и пошли в чулан, где была моя постель.
Я уж не знаю, что с нами было тогда. Наголодались, что ли, мы с ним или уж больно обрадовались, что мать уехала, только он до самой полуночи не слезал с меня. Сделает и лежит. Даже шишку из меня не вытаскивал. Так с засунутой шишкой и лежит. Лежу я под ним и хоть бы пошевелилась! Лежу себе и жду, когда шишка опять распухать начнёт. А как только почую, что она словно шевелиться начнёт, так сейчас прижмусь к нему. Прижмусь и готово. И опять за дело!
— Ну, Галчонок, — говорит, — мы с тобой словно ошалели!
А я знай себе лежу да всё крепче и крепче прижимаю его к себе.
Наконец, уже после шестого раза, он слез с меня.
— Довольно, — говорит, — кажись, досыта!
И точно, что досыта.
— Давай, — говорит, — спать теперь.
Мы сходили оправиться, укрылись одеялом и заснули.
Вдруг ночью слышу: кто-то хлопает дверью. Я хотела было вскочить с кровати и вдруг вижу мать с лампой на пороге, а вотчим стоит возле неё в одной рубахе. И слова вымолвить не может. Я обомлела. Пальцем пошевелить не могу. А потом. что тут было! До сих пор трясёт меня, как вспомню, как ругала мать вотчима, а заодно и меня.
Не знаю, как я нашла силы одеться-то и как мне удалось выбраться из дому. Ещё не зачало рассветать, а я уже бежала, куда глаза глядят. Бежала, как очумелая, а потом вышла на дорогу в город. Кто-то меня подвёз, дал краюху хлеба, и уже почитай как две недели я тут. Намаялась, страсть, а работы подходящей не нашла. Мать, слыхала, разошлась с вотчимом, а как теперь живут-то они — не знаю.
Источник статьи: http://proza.ru/2016/11/20/788